V-A-C
Недовольство коллаборацией:
Клер Бишоп о социальном повороте в искусстве
Клер Бишоп о социальном повороте в искусстве
Фото: Superflex, «Tenantspin»
Искусство начиная с 1990-х годов стремилось к коллаборации и вовлечению. Образуя децентрализованные сети взаимодействия оно противопоставляло себя «обществу спектакля» и претендовало на статус нового авангарда. Однако политики использовали «инклюзивный характер» такого искусства в своих целях: финансируя социально-ориентированные проекты, они затушевывали неравенство и сокращали государственное финансирование. T&P начинает публикацию отрывков из перевода книги Клер Бишоп «Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства», который выходит в издательстве V-A-C Press.
В современной литературе по партиципаторному и коллаборативному искусству доминирует ограниченный набор теоретических ориентиров: Вальтер Беньямин, Мишель де Серто, Ситуационистский интернационал, Паулу Фрейре, Делез и Гваттари, Хаким Бей. Чаще же всего цитируют французского режиссера и писателя Ги Дебора, известного вердиктом, который он вынес отчуждающим и разобщающим последствиям капитализма в «Обществе спектакля» (1967), а также теорией коллективно создаваемых «ситуаций». По мнению многих левых художников и кураторов, критика Дебора предельно четко объясняет важность участия как проекта: оно регуманизирует общество, омертвевшее и раздробленное под действием репрессивной инструментальности капиталистического производства. Согласно этой логике, поскольку рынок почти перенасыщен образами, художественная практика больше не может выстраиваться вокруг производства объектов, предназначенных для потребления пассивным наблюдателем. На смену этому должно прийти искусство действия, сталкивающееся с реальностью и пытающееся хоть как-то восстановить нарушенные социальные связи. Историк искусства Грант Кестер, например, отмечает, что искусство занимает наиболее выигрышную позицию для противостояния миру, в котором «мы оказываемся не более чем атомизированным псевдосообществом потребителей, а наша чувствительность притуплена спектаклем и повторением». «Одна из причин, по которым художники больше не заинтересованы в пассивном процессе „представляющий — зритель", — пишет нидерландская художница Жанна ван Хесвейк, — в том, что такая коммуникация была полностью присвоена коммерческой сферой... В конце концов, эстетическое переживание сегодня можно получить на каждом углу». Позже художник-активист Грегори Шолетт и историк искусства Блейк Стимсон заявили, что «в мире, почти полностью подчиненном товарной форме и спектаклю в целом, единственным пространством для действий остается непосредственное взаимодействие с производительными силами». Даже куратор Николя Буррио, описывая искусство взаимодействия 1990-х, обращается к спектаклю как основному ориентиру: «Сегодня мы находимся на следующем этапе развития спектакля: человек перешел от пассивного положения, основанного на чистом повторении, к минимальному действию, продиктованному ему силами рынка... Здесь мы призваны стать дополнениями спектакля». Как отмечает философ Жак Рансьер, «„критика спектакля" часто остается альфой и омегой „политики искусства"».
В феврале 2015 года фонд V-A-C запустил новую программу по реализации художественных проектов в городской среде Москвы «Расширение пространства. Художественные практики в городской среде», направленную на распознавание точек взаимного интереса искусства и города, а также исследование способов их взаимодействия, адекватных социальной и культурной жизни Москвы. Одна из важнейших задач проекта — стимулирование общественной и профессиональной дискуссии о роли и возможностях паблик-арта в современной московской среде. В рамках совместного сотрудничества с фондом V-A-C, «Теории и практики» подготовили серию теоретических текстов о паблик-арте и интервью с ведущими специалистами в сфере искусства в городской среде, которые делятся с читателями своими идеями о будущем паблик-арта.
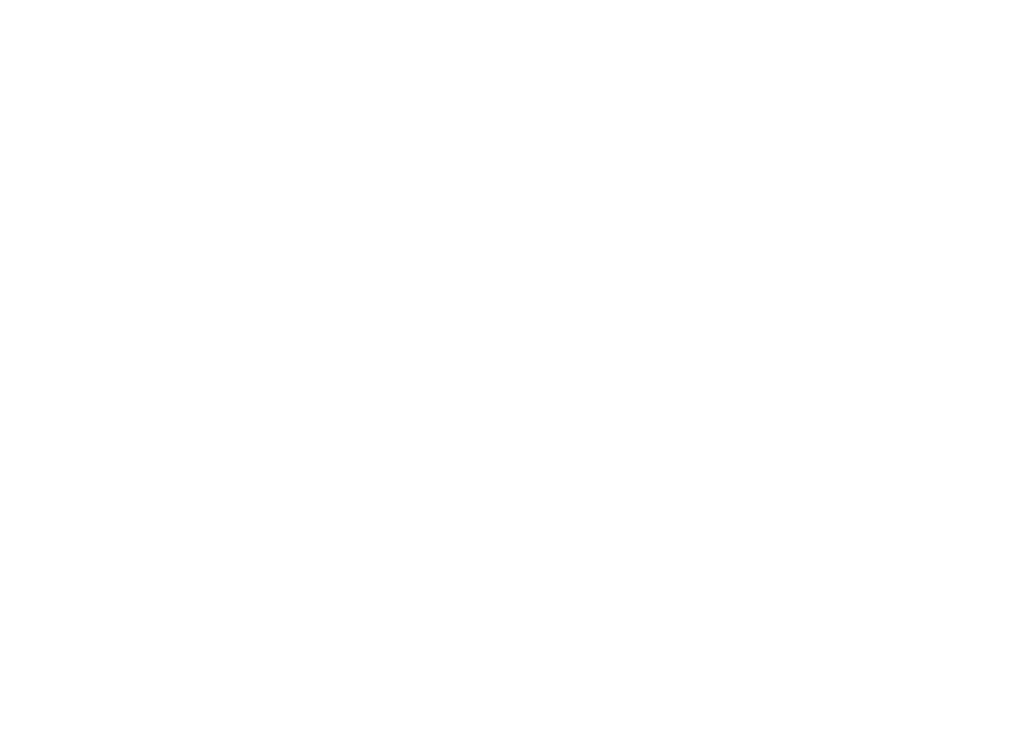
Jeanne van Heeswijk, Public Faculty No. 1 – Skopje City Park (2008)
Наряду с дискурсом спектакля, передовое искусство прошлого десятилетия пережило новое утверждение коллективности и принижение индивидуального, которое стало отождествляться с либерализмом времен холодной войны и его превращением в неолиберализм, то есть экономическую практику частнособственнических прав, свободных рынков и свободной торговли. Стимулом для значительной части этих дискуссий стали итальянские операистские теории современного труда. Согласно этим концепциям, современный художник-виртуоз стал ролевой моделью для гибкого, мобильного работника широкого профиля, который способен творчески адаптироваться к различным ситуациям и сам становиться брендом. Противостоит такой модели коллектив: коллаборативная практика представляется автоматической контрмоделью социального единства, вне зависимости от ее фактической политики. Как заметил Паоло Вирно, если исторический авангард вдохновлялся централизованными политическими партиями и был связан с ними, то «современные коллективные практики связаны с децентрализованной и гетерогенной сетью, которая составляет постфордистскую социальную кооперацию». Эта социальная сеть зарождающегося «множества» получила оценку на таких выставках и мероприятиях, как «Коллективная креативность» (WHW, 2005), «Взяться за дело вместе» (Мария Линд и другие, 2005) и «Демократия в Америке» (Нато Томпсон, 2008). Коллективность и коллаборация, наряду с «утопией» и «революцией», принадлежат к числу наиболее постоянных сюжетов передового искусства и выставок последнего десятилетия. К коллективным устремлениям по различным линиям идентификации обращалось несчетное множество работ: от печальных видео Йоханны Биллинг, в которых молодые люди собираются вместе, в том числе через посредство музыки («Проект революции», 2000; «Волшебный мир», 2005), до Катержины Шеды, приглашающей всех в маленькую чешскую деревню, чтобы в течение одного дня поучаствовать в ее обязательной программе занятий («Здесь ничего нет», 2003), от партиципаторных мероприятий Шерон Хейс для ЛГБТ-сообществ («Революционная любовь», 2008) до перформанса Тани Бругеры, в котором слепые в военной форме стоят на улице и предлагают секс («Завершенная революция», 2008). Даже если работа не является прямо партиципаторной, одних только отсылок к сообществу, коллективности (утраченной или актуализированной) и революции уже достаточно, чтобы указать на критическую дистанцию по отношению к неолиберальному новому мировому порядку. На индивидуализм, напротив, смотрят с подозрением, не в последнюю очередь потому, что система коммерческого искусства и составления музейных программ продолжает помещать в центр своего внимания прибыльных одиночек.
Таким образом, партиципаторные проекты в социальном поле представляют собой двойной жест противостояния и улучшения. Они действуют против господствующих императивов рынка, растворяя индивидуальное авторство в совместных действиях, не попадающих в «ловушки отрицания и своекорыстия». Вместо того чтобы поставлять товары на рынок, партиципаторное искусство, как принято считать, направляет символический капитал искусства на конструктивные социальные преобразования. С учетом этой декларируемой политики и убеждений, побуждающих к такой работе, появляется соблазн сказать, что это искусство, пожалуй, представляет собой сегодняшний авангард: художники разрабатывают социальные ситуации как часть дематериализованного, антирыночного, политически ангажированного проекта, продолжающего авангардное стремление cделать искусство более важной частью жизни. Но насущность этой социальной задачи приводит к положению, когда все социально-коллаборативные практики воспринимаются как важные художественные жесты сопротивления: в области партиципаторного искусства не может быть провальных, неудачных, непринятых или скучных работ, потому что все они в равной степени необходимы для восстановления социальных связей. Хотя последнее стремление вызывает у меня сочувствие, я полагаю, что не менее важно критически обсуждать, анализировать и сравнивать эти работы как произведения искусства, поскольку поддержку и распространение они получают именно в институциональном поле искусства, невзирая на то, что категория искусства из обсуждения таких проектов постоянно исключается.
Таким образом, партиципаторные проекты в социальном поле представляют собой двойной жест противостояния и улучшения. Они действуют против господствующих императивов рынка, растворяя индивидуальное авторство в совместных действиях, не попадающих в «ловушки отрицания и своекорыстия». Вместо того чтобы поставлять товары на рынок, партиципаторное искусство, как принято считать, направляет символический капитал искусства на конструктивные социальные преобразования. С учетом этой декларируемой политики и убеждений, побуждающих к такой работе, появляется соблазн сказать, что это искусство, пожалуй, представляет собой сегодняшний авангард: художники разрабатывают социальные ситуации как часть дематериализованного, антирыночного, политически ангажированного проекта, продолжающего авангардное стремление cделать искусство более важной частью жизни. Но насущность этой социальной задачи приводит к положению, когда все социально-коллаборативные практики воспринимаются как важные художественные жесты сопротивления: в области партиципаторного искусства не может быть провальных, неудачных, непринятых или скучных работ, потому что все они в равной степени необходимы для восстановления социальных связей. Хотя последнее стремление вызывает у меня сочувствие, я полагаю, что не менее важно критически обсуждать, анализировать и сравнивать эти работы как произведения искусства, поскольку поддержку и распространение они получают именно в институциональном поле искусства, невзирая на то, что категория искусства из обсуждения таких проектов постоянно исключается.
Johanna Billing, Project for a revolution, 2000
Эта проблема особенно остро стоит в Европе. В Великобритании новые лейбористы (1997–2010) для оправдания государственных расходов на искусство использовали риторику, почти совпадающую с риторикой представителей социально ангажированного искусства. Придя к власти в 1997 году, они стали задумываться об отчетности, задаваясь вопросом: что искусство может сделать для общества? В качестве ответов говорилось о росте занятости, снижении преступности, поощрении амбиций — о чем угодно, кроме художественного экспериментирования и поиска как самостоятельных ценностях. Поэтому производство и восприятие искусства были перелицованы согласно политической логике, в которой численность аудитории и маркетинговая статистика стали ключевыми факторами для получения господдержки. Основным понятием, которым оперировали новые лейбористы, было «социальное исключение»: если люди выпадают из системы образования, а затем оказываются и вне рынка труда, растет опасность, что они станут проблемой для структур социального обеспечения и общества в целом. Поэтому новые лейбористы предлагали искусству быть социально инклюзивным. Несмотря на человеколюбивый тон этой повестки, ее критиковали слева — прежде всего за то, что она направлена на замазывание социального неравенства, на представление его в качестве косметической, а не структурной проблемы. Она проводит главную разделительную черту в обществе между включенным большинством и исключенным меньшинством (ранее известным как «рабочий класс»). Решение, которое предполагает дискурс социального исключения, сводится к простой задаче перехода через границу между исключенными и включенными, что должно позволить людям достичь священного грааля самодостаточного консюмеризма и перестать зависеть от пособий или льгот. К тому же социальное исключение обычно рассматривается не как следствие неолиберальной политики, а как результат ряда частных (и личных) обстоятельств, таких как употребление наркотиков, преступность, распад семьи и подростковая беременность. Участие стало одним из ходовых слов в дискурсе социального включения, но в отличие от его функции в современном искусстве (где оно обозначает самореализацию и коллективное действие), для новых лейбористов оно, по сути, означало устранение людей, создающих помехи. Быть включенным и участвовать в жизни общества означает быть пригодным для полной занятости, самодостаточным и иметь доход, с которого уплачиваются налоги.
Дискурс социального включения как часть культурной политики новых лейбористов во многом опирался на отчет Франсуа Матарассо, подтверждающий положительный эффект социального участия в искусстве. Матарассо перечисляет пятьдесят преимуществ социально ангажированных практик, предлагая «доказательства» того, что они снижают изоляцию, помогая людям заводить друзей, развивают местные сообщества, повышают коммуникабельность, помогают правонарушителям и пострадавшим решать проблемы, связанные с преступностью, повышают трудоспособность, помогают людям идти на риск и способствуют улучшению имиджа государственных учреждений. Последний аргумент, пожалуй, самый лукавый: социальное участие расценивается положительно потому, что создает покорных граждан, которые уважают власть и принимают «риск» и ответственность, связанные с заботой о себе, в условиях сокращения социальной поддержки. Как отметила теоретик культуры Паола Мерли, ни один из этих результатов не изменит структурных условий повседневного существования людей и даже не повысит информированность об этих условиях, а только поможет людям их принять.
Повестка социального включения, таким образом, касается не столько восстановления социальных связей, сколько обеспечения возможности для всех членов общества быть самостоятельными, полноценными потребителями, не полагающимися на социальное государство и способными справиться с дерегулированным, приватизированным миром. Таким образом, неолиберальная идея сообщества направлена не на создание социальных отношений, а на их размывание; как заметил социолог Ульрих Бек, социальные проблемы переживаются как индивидуальные, а не социальные, и мы чувствуем себя обязанными искать «биографического снятия системных противоречий». По такой логике участие в обществе — это просто участие в несении индивидуальной ответственности за то, что в прошлом было коллективной заботой государства. С приходом к власти коалиции консерваторов и либерал-демократов в мае 2010 года этот процесс вырождения ответственности ускорился: «большое общество» Дэвида Кэмерона (якобы форма народовластия, при которой население может критиковать способ управления библиотеками, школами, полицией и транспортом и т.д.) в действительности обозначает государственную политику невмешательства, замаскированную под призыв формировать «новую культуру волонтерства, филантропии, социального действия». По сути же это плохо скрываемый оппортунизм — волонтерам предлагают бесплатно делать то, от чего отказывается государство, одновременно приватизируя учреждения, обеспечивавшие равенство доступа к образованию, социальной защите и культуре.
Дискурс социального включения как часть культурной политики новых лейбористов во многом опирался на отчет Франсуа Матарассо, подтверждающий положительный эффект социального участия в искусстве. Матарассо перечисляет пятьдесят преимуществ социально ангажированных практик, предлагая «доказательства» того, что они снижают изоляцию, помогая людям заводить друзей, развивают местные сообщества, повышают коммуникабельность, помогают правонарушителям и пострадавшим решать проблемы, связанные с преступностью, повышают трудоспособность, помогают людям идти на риск и способствуют улучшению имиджа государственных учреждений. Последний аргумент, пожалуй, самый лукавый: социальное участие расценивается положительно потому, что создает покорных граждан, которые уважают власть и принимают «риск» и ответственность, связанные с заботой о себе, в условиях сокращения социальной поддержки. Как отметила теоретик культуры Паола Мерли, ни один из этих результатов не изменит структурных условий повседневного существования людей и даже не повысит информированность об этих условиях, а только поможет людям их принять.
Повестка социального включения, таким образом, касается не столько восстановления социальных связей, сколько обеспечения возможности для всех членов общества быть самостоятельными, полноценными потребителями, не полагающимися на социальное государство и способными справиться с дерегулированным, приватизированным миром. Таким образом, неолиберальная идея сообщества направлена не на создание социальных отношений, а на их размывание; как заметил социолог Ульрих Бек, социальные проблемы переживаются как индивидуальные, а не социальные, и мы чувствуем себя обязанными искать «биографического снятия системных противоречий». По такой логике участие в обществе — это просто участие в несении индивидуальной ответственности за то, что в прошлом было коллективной заботой государства. С приходом к власти коалиции консерваторов и либерал-демократов в мае 2010 года этот процесс вырождения ответственности ускорился: «большое общество» Дэвида Кэмерона (якобы форма народовластия, при которой население может критиковать способ управления библиотеками, школами, полицией и транспортом и т.д.) в действительности обозначает государственную политику невмешательства, замаскированную под призыв формировать «новую культуру волонтерства, филантропии, социального действия». По сути же это плохо скрываемый оппортунизм — волонтерам предлагают бесплатно делать то, от чего отказывается государство, одновременно приватизируя учреждения, обеспечивавшие равенство доступа к образованию, социальной защите и культуре.
И в этом стремлении Великобритания не одинока. В Северной Европе дискурс 1960-х об участии, творчестве и сообществе также претерпел изменения: эти слова утратили свою подрывную, антиавторитарную силу и стали основой постиндустриальной экономической политики. С 1990-х и вплоть до кризиса 2008 года «креативность» была одним из самых модных слов в «новой экономике», пришедшей на смену тяжелой промышленности и товарному производству. В 2005 году министерство образования, культуры и науки и министерство экономики Нидерландов представили правому коалиционному правительству программный документ под названием «Наша креативная способность». Его задачей было «усилить экономический потенциал культуры и креативность поддержкой креативных сил нидерландской торговли и промышленности». Действовать предполагалось по двум фронтам: с одной стороны, дать бизнес-сообществу более полное представление о возможностях творческого сектора, «порождающего множество идей для развития и внедрения новых технологий и продуктов», с другой — способствовать осознанию культурным сектором своего рыночного потенциала.
Можно заметить, что авторы этого текста не признают различий между «креативной индустрией», «культурной индустрией», «искусством» и «развлечениями». Результатом этого умолчания становится не продуктивное размывание и усложнение понятий (как это бывает в некоторых междисциплинарных художественных практиках), а сведение всего к финансовым вопросам: «Некоторые люди приписывают определенным секторам большие художественные достоинства, однако с точки зрения экономического использования этот факт совершенно нерелевантен». Через год, в 2006-м, правительство Нидерландов официально открыло программу «Культура и экономика» с бюджетом в €15 миллионов, направленную на капитализацию креативности как особой статьи нидерландского экспорта, как бы невольно распространяя логику группы De Stijl на предпринимательские возможности. Одновременно городской совет Амстердама приступил к агрессивному ребрендингу нидерландской столицы как «креативного города»: «Креативность будет поставлена в центр внимания», — заявили его представители, поясняя, что «креативность — это движущая сила, придающая городу притягательность и динамизм».
Одним из образцов для нидерландской инициативы были новые лейбористы, придававшие большое значение роли креативности и культуры в коммерции и росту «экономики знаний». Это подразумевало использование музеев как источников обновления, а также инвестиции в «креативную индустрию» как альтернативу традиционному производству. Новые лейбористы опирались на открыто утилитарный подход к культурной политике, свойственный правительству консерваторов: «Зеленая книга» 2001 года начинается со слов «каждый человек обладает творческой способностью», а задачей правительства объявляется «высвобождение присущего людям творческого потенциала». Эта цель, однако, не связана ни с достижением большей социальной удовлетворенности, ни с реализацией самобытного человеческого потенциала, ни с изобретением утопических альтернатив — вместо этого, по выражению социолога Анджелы Макробби, она предполагает создание «будущего социально разнородного поколения творческих работников, которые фонтанируют идеями и чьи умения не обязательно направляются в область искусства и культуры, но также могут применяться в бизнесе».
Коротко говоря, возникновение креативного и мобильного сектора служит двум целям: снижает до минимума надежду на социальное государство и зависимость от него, одновременно освобождая корпорации от бремени ответственности за постоянных работников. Поэтому для новых лейбористов было важно развивать креативность в школах — не потому, что каждый должен быть художником (как провозглашал Йозеф Бойс), а потому, что от населения все больше требуют принимать индивидуализацию, которая ассоциируется с креативностью — быть предприимчивыми, готовыми идти на риск, следить за соблюдением собственных интересов, продвигать собственные бренды и с готовностью соглашаться на самоэксплуатацию. Снова цитируя Макробби: «...у новых лейбористов один ответ на великое множество проблем различных слоев населения, например матерей, сидящих с детьми и не вполне готовых вернуться к полной занятости, и этот ответ — стань „самозанятой", начни собственное дело, будь свободна делать что-то свое. Живи и работай как художник». Социолог Эндрю Росс приходит к похожему выводу, объясняя, что художник стал образцом для подражания со стороны тех, кого он называет рабочей силой «без воротничков»: художники представляют удобную модель прекарного труда, поскольку их рабочий менталитет основывается на гибкости (работать попроектно, а не с девяти до пяти) и на идее жертвенного труда (то есть на предрасположенности соглашаться на меньшие деньги при условии относительной свободы).
Можно заметить, что авторы этого текста не признают различий между «креативной индустрией», «культурной индустрией», «искусством» и «развлечениями». Результатом этого умолчания становится не продуктивное размывание и усложнение понятий (как это бывает в некоторых междисциплинарных художественных практиках), а сведение всего к финансовым вопросам: «Некоторые люди приписывают определенным секторам большие художественные достоинства, однако с точки зрения экономического использования этот факт совершенно нерелевантен». Через год, в 2006-м, правительство Нидерландов официально открыло программу «Культура и экономика» с бюджетом в €15 миллионов, направленную на капитализацию креативности как особой статьи нидерландского экспорта, как бы невольно распространяя логику группы De Stijl на предпринимательские возможности. Одновременно городской совет Амстердама приступил к агрессивному ребрендингу нидерландской столицы как «креативного города»: «Креативность будет поставлена в центр внимания», — заявили его представители, поясняя, что «креативность — это движущая сила, придающая городу притягательность и динамизм».
Одним из образцов для нидерландской инициативы были новые лейбористы, придававшие большое значение роли креативности и культуры в коммерции и росту «экономики знаний». Это подразумевало использование музеев как источников обновления, а также инвестиции в «креативную индустрию» как альтернативу традиционному производству. Новые лейбористы опирались на открыто утилитарный подход к культурной политике, свойственный правительству консерваторов: «Зеленая книга» 2001 года начинается со слов «каждый человек обладает творческой способностью», а задачей правительства объявляется «высвобождение присущего людям творческого потенциала». Эта цель, однако, не связана ни с достижением большей социальной удовлетворенности, ни с реализацией самобытного человеческого потенциала, ни с изобретением утопических альтернатив — вместо этого, по выражению социолога Анджелы Макробби, она предполагает создание «будущего социально разнородного поколения творческих работников, которые фонтанируют идеями и чьи умения не обязательно направляются в область искусства и культуры, но также могут применяться в бизнесе».
Коротко говоря, возникновение креативного и мобильного сектора служит двум целям: снижает до минимума надежду на социальное государство и зависимость от него, одновременно освобождая корпорации от бремени ответственности за постоянных работников. Поэтому для новых лейбористов было важно развивать креативность в школах — не потому, что каждый должен быть художником (как провозглашал Йозеф Бойс), а потому, что от населения все больше требуют принимать индивидуализацию, которая ассоциируется с креативностью — быть предприимчивыми, готовыми идти на риск, следить за соблюдением собственных интересов, продвигать собственные бренды и с готовностью соглашаться на самоэксплуатацию. Снова цитируя Макробби: «...у новых лейбористов один ответ на великое множество проблем различных слоев населения, например матерей, сидящих с детьми и не вполне готовых вернуться к полной занятости, и этот ответ — стань „самозанятой", начни собственное дело, будь свободна делать что-то свое. Живи и работай как художник». Социолог Эндрю Росс приходит к похожему выводу, объясняя, что художник стал образцом для подражания со стороны тех, кого он называет рабочей силой «без воротничков»: художники представляют удобную модель прекарного труда, поскольку их рабочий менталитет основывается на гибкости (работать попроектно, а не с девяти до пяти) и на идее жертвенного труда (то есть на предрасположенности соглашаться на меньшие деньги при условии относительной свободы).
Superflex, «Tenantspin». 2002
Здесь возникает проблематичное смешение искусства и креативности — двух пересекающихся понятий, которые различаются не только по демографическим коннотациям, но и по дискурсам об их инструментализации, сложности и доступности. Дискурс креативности демократизирует элитистскую деятельность в сфере искусства, хотя сегодня это приводит скорее к занятию бизнесом, чем к реализации идей Бойса. Деиерархизирующая риторика художников, чьи проекты направлены на раскрытие креативности, в конечном счете звучит в точности так же, как и правительственная культурная политика, сосредоточенная на мантрах социального включения и креативных городов. Между тем художественная практика несет в себе элемент критического отрицания и способность поддерживать противоречие, которое невозможно разрешить количественно измеримыми императивами позитивистской экономики. Художники и произведения искусства могут действовать в пространстве антагонизма или отрицания общества, тогда как идеологический дискурс креативности сводит это напряжение к унифицированному контексту и инструментализирует его ради повышения прибылей.
Соединение дискурсов искусства и креативности можно увидеть в многочисленных текстах художников и кураторов о партиципаторном искусстве — критерии для оценки работы в обоих случаях оказываются социологическими и определяются зримыми результатами. Взять, например, куратора Чарлза Эше и его статью о проекте нидерландского коллектива Superflex под названием Tenantspin — интернет-телеканале для пожилых жителей обветшалой многоэтажки в Ливерпуле (2000–). Эше пересыпает свой текст пространными цитатами из правительственных отчетов о состоянии муниципального жилья в Британии, указывая на первостепенное значение социологического контекста для понимания проекта. Но его главное суждение о Tenantspin касается эффективности проекта как «инструмента», способного «изменить образ самой многоэтажки и ее жителей»; по его мнению, основное достижение проекта в том, что он «укрепил в жителях чувство общности»ii. Эше — один из самых убежденных защитников политизированной художественной практики в Европе и один из самых радикальных музейных директоров, но его статья — показательный пример той критической тенденции, к которой я пытаюсь привлечь внимание. Его решение не говорить о том, каково для Superflex значение этого проекта с художественной точки зрения, в конечном счете делает его оценочные суждения неотличимыми от государственной политики в области искусства с ее акцентом на проверяемые результаты.
И вот мы скатываемся в социологический дискурс. А куда же подевалась эстетика? Это слово вызывает жаркие споры уже несколько десятилетий. Оно стало «неприкасаемым» — по крайней мере, в англоязычном мире, — с тех пор, как академия приняла парадигмы социальной истории и политики идентичности, которые неоднократно привлекали внимание к тому, что эстетика скрывает за собой неравенство, угнетение и исключение (по расовому, гендерному, классовому и другим признакам). Это способствовало приравниванию эстетики к формализму, деконтекстуализации и деполитизации, в результате чего она стала синонимом рынка и консервативной культурной иерархии. И хотя в 1970-х годах эти аргументы были необходимы для разрушения глубоко укоренившейся власти белых мужских элит, сегодня они превратились в косную критическую ортодоксию.
Под сомнение эта парадигма была поставлена только к началу нового тысячелетия, прежде всего в работах Жака Рансьера, реабилитировавшего идею эстетики и показавшего, что как цельная область он связана с политикой. До того как его работы получили известность, немногие художники, стремящиеся заниматься социально-политическими проблемами, добровольно назвали бы свою практику «эстетической». Хотя аргументы Рансьера относятся скорее к философии, чем к художественной критике, он предпринял важную работу по критике нескольких бинарных оппозиций, на которые полагался дискурс политизированного искусства: индивидуальное/коллективное, автор/зритель, активное/пассивное, реальная жизнь/искусство. Тем самым он сделал возможной разработку новой художественной терминологии для описания и анализа зрительства, области, в которой ранее слегка шизофренически господствовали критическая неприкосновенность Вальтера Беньямина («Произведение искусства...» и «Автор как производитель») и враждебность к потребительскому спектаклю (по теории Дебора)iii. Когда я начинала это исследование, казалось, что между существующей по законам рынка живописью и скульптурой с одной стороны и долгосрочными социально ориентированными проектами с другой пролегает огромная пропасть. К моменту завершения моей работы партиципаторное искусство заняло заметное место в художественных учебных заведениях, музеях и коммерческих галереях, хотя его вхождение в эти институции и сопровождается некоторым общим замешательством относительно того, как его следует воспринимать в качестве искусства. Если мы не найдем более точного языка для описания художественного статуса этих работ, мы рискуем обсуждать его в чисто позитивистских категориях, то есть сосредотачиваясь на зримых результатах. Поэтому одна из задач этой книги состоит в том, чтобы подчеркнуть эстетическое в смысле aisthesis — автономного режима восприятия, несводимого к логике, разуму и морали. И для этого нам прежде всего нужно изучить критерии, используемые для объяснения социально ангажированных проектов в настоящее время.
Соединение дискурсов искусства и креативности можно увидеть в многочисленных текстах художников и кураторов о партиципаторном искусстве — критерии для оценки работы в обоих случаях оказываются социологическими и определяются зримыми результатами. Взять, например, куратора Чарлза Эше и его статью о проекте нидерландского коллектива Superflex под названием Tenantspin — интернет-телеканале для пожилых жителей обветшалой многоэтажки в Ливерпуле (2000–). Эше пересыпает свой текст пространными цитатами из правительственных отчетов о состоянии муниципального жилья в Британии, указывая на первостепенное значение социологического контекста для понимания проекта. Но его главное суждение о Tenantspin касается эффективности проекта как «инструмента», способного «изменить образ самой многоэтажки и ее жителей»; по его мнению, основное достижение проекта в том, что он «укрепил в жителях чувство общности»ii. Эше — один из самых убежденных защитников политизированной художественной практики в Европе и один из самых радикальных музейных директоров, но его статья — показательный пример той критической тенденции, к которой я пытаюсь привлечь внимание. Его решение не говорить о том, каково для Superflex значение этого проекта с художественной точки зрения, в конечном счете делает его оценочные суждения неотличимыми от государственной политики в области искусства с ее акцентом на проверяемые результаты.
И вот мы скатываемся в социологический дискурс. А куда же подевалась эстетика? Это слово вызывает жаркие споры уже несколько десятилетий. Оно стало «неприкасаемым» — по крайней мере, в англоязычном мире, — с тех пор, как академия приняла парадигмы социальной истории и политики идентичности, которые неоднократно привлекали внимание к тому, что эстетика скрывает за собой неравенство, угнетение и исключение (по расовому, гендерному, классовому и другим признакам). Это способствовало приравниванию эстетики к формализму, деконтекстуализации и деполитизации, в результате чего она стала синонимом рынка и консервативной культурной иерархии. И хотя в 1970-х годах эти аргументы были необходимы для разрушения глубоко укоренившейся власти белых мужских элит, сегодня они превратились в косную критическую ортодоксию.
Под сомнение эта парадигма была поставлена только к началу нового тысячелетия, прежде всего в работах Жака Рансьера, реабилитировавшего идею эстетики и показавшего, что как цельная область он связана с политикой. До того как его работы получили известность, немногие художники, стремящиеся заниматься социально-политическими проблемами, добровольно назвали бы свою практику «эстетической». Хотя аргументы Рансьера относятся скорее к философии, чем к художественной критике, он предпринял важную работу по критике нескольких бинарных оппозиций, на которые полагался дискурс политизированного искусства: индивидуальное/коллективное, автор/зритель, активное/пассивное, реальная жизнь/искусство. Тем самым он сделал возможной разработку новой художественной терминологии для описания и анализа зрительства, области, в которой ранее слегка шизофренически господствовали критическая неприкосновенность Вальтера Беньямина («Произведение искусства...» и «Автор как производитель») и враждебность к потребительскому спектаклю (по теории Дебора)iii. Когда я начинала это исследование, казалось, что между существующей по законам рынка живописью и скульптурой с одной стороны и долгосрочными социально ориентированными проектами с другой пролегает огромная пропасть. К моменту завершения моей работы партиципаторное искусство заняло заметное место в художественных учебных заведениях, музеях и коммерческих галереях, хотя его вхождение в эти институции и сопровождается некоторым общим замешательством относительно того, как его следует воспринимать в качестве искусства. Если мы не найдем более точного языка для описания художественного статуса этих работ, мы рискуем обсуждать его в чисто позитивистских категориях, то есть сосредотачиваясь на зримых результатах. Поэтому одна из задач этой книги состоит в том, чтобы подчеркнуть эстетическое в смысле aisthesis — автономного режима восприятия, несводимого к логике, разуму и морали. И для этого нам прежде всего нужно изучить критерии, используемые для объяснения социально ангажированных проектов в настоящее время.

