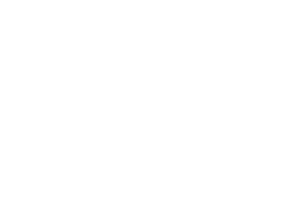V-A-C
Управляемая реальность:
Клер Бишоп о метаполитическом искусстве
Клер Бишоп о метаполитическом искусстве
В 2001 году британский художник Джереми Деллер реконструировал жестокое столкновение между шахтерами и конными полицейскими, которое произошло в Лондоне во время протестов против политики Маргарет Тэтчер в 1984 году. «Битва при Огриве» представляет это историческое событие «снизу», как его видели сами участники, а не так как описывали журналисты. Поскольку эта работа не сводится к простому определению, но дестабилизирует и порождает несогласие, историк искусства Клер Бишоп называет ее метаполитической. T&P публикует третий отрывок из перевода книги «Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства», который выходит в издательстве V-A-C Press.
Хотя Рансьер и утверждает, что политика эстетики — это метаполитика (а не партийная политика), его теория фактически уклоняется от вопроса о том, как именно обращаться с конкретными идеологическими векторами того или иного произведения. Эта проблема особенно заметна в случае работы, которая стала, пожалуй, главным образчиком партиципаторного искусства, — «Битвы при Оргриве» (2001) британского художника Джереми Деллера. Еще с середины 1990-х он часто организует непредвиденные столкновения представителей разных кругов и проявляет сильный интерес к проблемам класса, субкультуры и самоорганизации, воплощая этот интерес в форме как перформансов («Кислотная медь», 1996), так и временных выставок («Неконвенция», 1999; «Народный архив», 2000–; «От одной революции к другой», 2008). «Битва при Оргриве», вероятно, самая известная его работа — перформанс, реконструирующий жестокое столкновение между шахтерами и конными полицейскими, произошедшее в 1984 году. В конфликте, разыгравшемся в йоркширской деревне Оргрив, участвовало около восьми тысяч полицейских специального назначения и около пяти тысяч бастующих шахтеров. Это был один из многих жестоких конфликтов, вызванных наступлением Маргарет Тэтчер на горнодобывающую промышленность. Он стал поворотной точкой в истории производственных отношений Великобритании, ослабив профсоюзное движение и позволив правительству консерваторов утвердить программу свободной торговли. В реенактменте Деллера участвовали бывшие шахтеры и местные жители, а также целый ряд клубов исторической реконструкции — вместе они отрепетировали и затем воспроизвели столкновение перед собравшимися зрителями на месте реального конфликта в Оргриве. В то же время работа Деллера имеет множественную онтологию: она включает, помимо непосредственного реенактмента событий 17 июня 2001 года, полнометражный фильм Майка Фиггиса, который явственно показывает, что использует это действо как способ выдвинуть обвинение против правительства Тэтчер («Битва при Оргриве», 2001), сборник устных историй («Гражданская война в Англии, часть II: Личные свидетельства о шахтерской забастовке 1984–1985 годов», 2002) и архив («Архив „Битвы при Оргриве" (Ранить одного значит ранить всех)», 2004).
В феврале 2015 года фонд V-A-C запустил новую программу по реализации художественных проектов в городской среде Москвы «Расширение пространства. Художественные практики в городской среде», направленную на распознавание точек взаимного интереса искусства и города, а также исследование способов их взаимодействия, адекватных социальной и культурной жизни Москвы. Одна из важнейших задач проекта — стимулирование общественной и профессиональной дискуссии о роли и возможностях паблик-арта в современной московской среде. В рамках совместного сотрудничества с фондом V-A-C, «Теории и практики» подготовили серию теоретических текстов о паблик-арте и интервью с ведущими специалистами в сфере искусства в городской среде, которые делятся с читателями своими идеями о будущем паблик-арта.
На первый взгляд кажется, что «Битва при Оргриве» имела терапевтический эффект, поскольку дала бывшим шахтерам возможность заново пережить травматические события 1980-х, а у некоторых из них была возможность сменить роль и сыграть полицейских. Но в действительности она не столько залечила рану, сколько разбередила ее, что подтверждает видеодокументация и публикация, включающая компакт-диск с записью рассказов участников. В фильме Фиггиса есть эмоциональные интервью с бывшими шахтерами — прямое доказательство продолжающегося классового антагонизма, опровергающее утверждение Тэтчер, что «общества не существует». Гнев бывших шахтеров на то, как с ними обошлось консервативное правительство, так и не утих, и он заметен в съемке репетиций накануне самого реенактмента, когда многие участники буквально задыхались от горечи. Но важно, что в то время как книга и фильм транслируют позицию сторонников забастовки, сам перформанс не столь однозначен. В видеосъемке Фиггиса он представлен короткими эпизодами, которые перемежаются с монологами бывших шахтеров, и контраст интонаций разителен. Хотя Деллер собрал людей для того, чтобы вспомнить и воспроизвести роковое и трагическое событие, происходило оно в обстановке, больше напоминающей деревенский праздник с духовым оркестром, бегающими вокруг детьми и палатками, в которых продают цветы и выпечку; между двумя «актами» даже был перерыв, когда звучали записи хитов середины 1980-х (как отметил один из критиков, в этом контексте «песни 'Two Tribes' и 'I Want to Break Free' неожиданно приобрели политическую остроту»). Как подтверждает материал фильма, «Битва при Оргриве» оказывается чем-то средним между пугающей сценой насилия и семейным развлечением. Иными словами, этот проект едва ли можно свести к какому-либо простому высказыванию или социальной функции (будь то терапия или контрпропаганда), потому что визуальный и драматический характер этого действа сущностно противоречив. По мнению Дэвида Гилберта, самые удачные моменты в фильме Фиггиса — те, где он передает это смешение эмоций, показывая, «как реенактмент будит воспоминания о боли, товариществе, поражении, а также ажиотаж борьбы».
«Битва при Оргриве», 2001 год
Во введении к книге «Гражданская война в Англии, часть II» Деллер замечает: «Как художника меня интересовало, насколько далеко можно завести идею, особенно такую, которая на первый взгляд кажется внутренне противоречивой, „воссозданием чего-то изначально хаотичного"». Попытка воссоздания хаоса сопряжена с двойным риском: либо потерять энергию разыгрываемого бунта, превратив его в заорганизованную хореографию, либо, наоборот, утратить порядок настолько, что все действо превратится в неудобовоспринимаемую сутолоку. Пройти между этими полюсами удалось за счет использования структуры, имевшей четко определенное концептуальное ядро, — реенактмент протеста силами бывших шахтеров и реконструкторских клубов, — но допускавшей формальную неточность и импровизацию, несмотря на строгость предложенных исполнителям «условий участия». Именно здесь видна серая художественная работа партиципаторного искусства — когда принимается решение о том, насколько детальный или свободный сценарий навязать участникам, — в отличие от этической черно-белой оценки «хорошей» или «плохой» коллаборации.
Художник Павел Альтхамер называет такую стратегию «управляемой реальностью», и этот выразительный термин служит удобным названием для того сочетания четкой концептуальной посылки и частично непредсказуемого воплощения, которое характерно для лучших образцов современного партиципаторного искусства (в том числе для работ самого Альтхамера). В одной из сцен фильма Фиггиса у Деллера берут интервью, пока он идет по полю, где должно происходить действо, и он с беспокойством говорит, что проект зажил собственной жизнью. На вопрос: «Как продвигается работа?» — он смущенно отвечает: «Интересно... Сегодня мы в первый раз собрали эти две группы вместе, и что будет дальше, сложно сказать. Посмотрите на это... На самом деле я всем этим уже не управляю. Ощущения такие же, какие были бы в реальной ситуации, — и предвкушение, и тревога».
Тезис, который я хочу таким образом проиллюстрировать, заключается в том, что это тревожное возбуждение неотделимо от общего смысла самой работы, поскольку каждое из принятых Деллером решений имело и социальное, и художественное значение. Решение воспроизвести один из последних крупных протестов британских промышленных рабочих, задействовав более двадцати реконструкторских клубов (в том числе «Запечатанный узел», «Федерацию войны Алой и Белой розы» и «Ассоциацию южных перестрелок»), повлияло и на процесс, и на результат проекта, и, кроме того, на его более широкий культурный резонанс. С точки зрения процесса, оно столкнуло реконструкторов, принадлежащих к среднему классу, с рабочими-шахтерами. Деллер отмечал: «Многие члены клубов исторической реконструкции до ужаса боялись шахтеров. По-видимому, в 1980-е они верили тому, что читали в прессе, и им казалось, что люди, с которыми им предстоит заниматься реконструкцией, будут настоящими бандитами или революционерами». Это привело к развенчанию (и, по-видимому, критике) всякой ностальгии по сентиментальному классовому единству. Между тем на уровне производства клубы по реконструкции боевых действий играли важнейшую роль в обеспечении драматического и технического успеха ре-перформанса, а также в выведении «Битвы при Оргриве» из регистра журналистики. Поскольку обычно реконструкторы разыгрывают сцены из английской истории, находящиеся на безопасном расстоянии от современной политики, — времен римских завоеваний или гражданской войны, — привлечение этих организаций символически повысило сравнительно недавние события в Оргриве до статуса эпизода английской истории (что Деллер недвусмысленно выражает в названии книги — «Гражданская война в Англии, часть II»). Но кроме того оно предполагало непростое сближение тех, для кого воссоздание этих событий было травматичным, и тех, для кого оно было стилизацией и сентиментальным ритуалом. Важной побочной темой проекта оказалось перевоспитание реконструкторов в духе повышения политической сознательности относительно их деятельности.
Художник Павел Альтхамер называет такую стратегию «управляемой реальностью», и этот выразительный термин служит удобным названием для того сочетания четкой концептуальной посылки и частично непредсказуемого воплощения, которое характерно для лучших образцов современного партиципаторного искусства (в том числе для работ самого Альтхамера). В одной из сцен фильма Фиггиса у Деллера берут интервью, пока он идет по полю, где должно происходить действо, и он с беспокойством говорит, что проект зажил собственной жизнью. На вопрос: «Как продвигается работа?» — он смущенно отвечает: «Интересно... Сегодня мы в первый раз собрали эти две группы вместе, и что будет дальше, сложно сказать. Посмотрите на это... На самом деле я всем этим уже не управляю. Ощущения такие же, какие были бы в реальной ситуации, — и предвкушение, и тревога».
Тезис, который я хочу таким образом проиллюстрировать, заключается в том, что это тревожное возбуждение неотделимо от общего смысла самой работы, поскольку каждое из принятых Деллером решений имело и социальное, и художественное значение. Решение воспроизвести один из последних крупных протестов британских промышленных рабочих, задействовав более двадцати реконструкторских клубов (в том числе «Запечатанный узел», «Федерацию войны Алой и Белой розы» и «Ассоциацию южных перестрелок»), повлияло и на процесс, и на результат проекта, и, кроме того, на его более широкий культурный резонанс. С точки зрения процесса, оно столкнуло реконструкторов, принадлежащих к среднему классу, с рабочими-шахтерами. Деллер отмечал: «Многие члены клубов исторической реконструкции до ужаса боялись шахтеров. По-видимому, в 1980-е они верили тому, что читали в прессе, и им казалось, что люди, с которыми им предстоит заниматься реконструкцией, будут настоящими бандитами или революционерами». Это привело к развенчанию (и, по-видимому, критике) всякой ностальгии по сентиментальному классовому единству. Между тем на уровне производства клубы по реконструкции боевых действий играли важнейшую роль в обеспечении драматического и технического успеха ре-перформанса, а также в выведении «Битвы при Оргриве» из регистра журналистики. Поскольку обычно реконструкторы разыгрывают сцены из английской истории, находящиеся на безопасном расстоянии от современной политики, — времен римских завоеваний или гражданской войны, — привлечение этих организаций символически повысило сравнительно недавние события в Оргриве до статуса эпизода английской истории (что Деллер недвусмысленно выражает в названии книги — «Гражданская война в Англии, часть II»). Но кроме того оно предполагало непростое сближение тех, для кого воссоздание этих событий было травматичным, и тех, для кого оно было стилизацией и сентиментальным ритуалом. Важной побочной темой проекта оказалось перевоспитание реконструкторов в духе повышения политической сознательности относительно их деятельности.
Таким образом, «Битве при Оргриве» удается выстраивать диалог одновременно с социальной историей и историей искусства, что подтверждается и восприятием проекта в мейнстримных медиа, журналах по устной истории и художественной прессе. В 1984 году СМИ представляли в качестве причины беспорядков поведение неконтролируемой массы шахтеров, а вовсе не решение выслать против них конную полицию — это впечатление достигалось за счет монтажа видеоматериалов для телерепортажей, в процессе которого кадры выстраивались в обратном порядке. Деллер называет свой контрнарратив «низовой исторической живописью», отсылая к такому жанру исторического письма, как «народная», или «низовая история». Его работа также предлагает нам сравнить две тенденции, которые, как принято считать, находятся на противоположных сторонах культурного спектра: эксцентричную форму досуга, какой является историческая реконструкция (где кровавые битвы с энтузиазмом воспроизводятся в качестве коллективного развлечения), и художественный жанр перформанса (в котором тогда лишь начинало формироваться течение реенактмента). Однако проект Деллера принадлежит к более долгой истории народного театра, включающего жесты политического реенактмента, в том числе шествие во время Патерсонской стачки 1913 года и штурм Зимнего дворца 1920 года (подробнее см. главу 2). Деллер не чурается этих ассоциаций и называет «Битву при Оргриве» как изображением современной истории через перформанс, так и работой «любительского театра». В 2004 году «Битва при Оргриве» приобрела еще одну форму распространения благодаря инсталляции «Архив „Битвы при Оргриве" (Ранить одного значит ранить всех)». Инсталляция включала изображенную на стене галереи хронику событий, предшествовавших беспорядкам в Оргриве и последовавших за ними, а также различные предметы (значки, плакаты, куртку, полицейский щит и картину под названием «Я — сын шахтера», написанную в учреждении для малолетних преступников в 2004 году); несколько витрин с архивной информацией о Национальном профсоюзе горняков и копии писем, адресованных участникам проекта Деллера; небольшое собрание книг о забастовке, доступных для чтения; собрание устных рассказов о забастовке на компакт-диске (с наушниками) и два видеоролика на экранах (один был посвящен тренировке полиции специального назначения, второй — реконструкторскому клубу «Фестиваль истории»). «Архив „Битвы при Оргриве"», таким образом, представляет собой двойной архив: беспорядков 1984 года и предшествовавшей им забастовки, но также и художественной реинтерпретации этих событий в перформансе, сделанном семнадцать лет спустя.
Поэтому причина, по которой «Битва при Оргриве» стала классическим примером новейшего партиципаторного искусства, состоит, очевидно, в том, что это этически достойный (художник работал в непосредственном соавторстве с бывшими шахтерами) и бесспорно политический проект — он использует партиципаторный перформанс и масс-медиа для возвращения в общественное сознание «неоконченной и неприятной истории» подавления государством рабочего класса и восстает против нее. В то же время я бы сказала, что «Битва при Оргриве» также ставит вопрос о том, что мы сегодня имеем в виду, называя некое произведение искусства «политическим». Примечательно, что многие комментаторы посчитали это действо политически уклончивым, особенно по сравнению с открытой пристрастностью документального фильма Фиггиса и деллеровского собрания устных историй, в котором предпочтение отдано позиции протестующих. Другие, как, например, Элис Коррейя, утверждают, что проект был необъективным: «приписывая бастующим шахтерам „правоту", а спецподразделениям полиции „неправоту", „Оргрив" несколько упрощает картину, поскольку обходит вопрос того, куда в ней поместить шахтеров, которые не участвовали в забастовке». Критик-марксист Дэйв Бич объясняет, что, хотя цели Деллера были «политическими» (переписать историю снизу), привлечение реконструкторских клубов дискредитировало эти намерения, сделав «Битву при Оргриве» «изображением» политики, а не политическим искусством, и, вопреки благим намерениям Деллера, использование этих организаций в конечном счете поставило проект на сторону «полиции, государства и тэтчеровского правительства». По мнению других критиков, сама перформативность «Оргрива» сделала его чем-то большим, нежели просто работой «по поводу» шахтерской стачки, поскольку перформанс является способом поддерживать сознательное отношение к истории через опыт ее переживания. Художники Каммингс и Левандовска считают, что это «сложное, глубокое и провокационное произведение современного искусства, использующее наследие марксистской культурной критики, чтобы стремительным и ярким жестом внести один из элементов этой идеологии в настоящее». Для самого автора «Оргрив» — это «бесспорно политическая работа», хотя ей и пришлось придать более нейтральный вид, чтобы обеспечить сотрудничество с реконструкторскими клубами. Поскольку этот проект посвящен памяти об одном из последних вздохов классовой борьбы в Британии, можно также добавить, что он является и размышлением о том, как изменился эстетический лексикон социальных протестных движений со времен 1980-х, по мере того как организованное классовое сопротивление превратилось в расползающееся и ацефалическое сопротивление глобализации с его «множеством» позиций и союзов, более не выстраиваемых вокруг какого-либо класса.
В этом небольшом обзоре реакций на «Битву в Оргриве» понятие «политическое» имеет несметное число коннотаций: оно обозначает повод для забастовки, конфликт между населением и правительством, усвоение точки зрения рабочего класса, неспособность художника сопротивляться государственной кооптации, осовременивание в художественном проекте основных положений марксизма, перформанс как способ критического представления истории и ностальгическое использование символики рабочих протестов. Единственный способ объяснить «политическое» здесь — это использовать рансьеровское понятие метаполитики, дестабилизирующего действия, порождающего диссенсус относительно того, что в этом мире выразимо и мыслимо. В то же время этот вывод кажется неподходящим для описания специфических групповых интересов, действующих в «Битве при Оргриве» (в данном случае — в ее качестве истории рабочей забастовки, подавленной правыми у власти). То, что мы называем «Оргрив» метаполитическим проектом, не особенно помогает нам артикулировать очевидную — но далеко не однозначную — идеологическую позицию работы Деллера: это не прямолинейная реконструкция того типа, который принят у клуба «Запечатанный узел», но и не агитпроп, не активистский театр, продвигающий конкретную политическую идею. В таком случае было бы заманчивым заявить, что «Оргрив» стал столь известным примером партиципаторного искусства не только потому, что в 2000-е был одним из его самых первых и высококлассных образцов, но и потому, что эстетические решения Деллера реорганизовали традиционные способы выражения левой политики в искусстве. Деллер не стал восхвалять рабочих как некую бесспорно героическую величину, а противопоставил их среднему классу, чтобы написать универсальную историю угнетения, тем самым подрывая не только традиционные ходы левого искусства, но также идентификационные схемы и тональность, в которой они обычно преподносятся.
Поэтому причина, по которой «Битва при Оргриве» стала классическим примером новейшего партиципаторного искусства, состоит, очевидно, в том, что это этически достойный (художник работал в непосредственном соавторстве с бывшими шахтерами) и бесспорно политический проект — он использует партиципаторный перформанс и масс-медиа для возвращения в общественное сознание «неоконченной и неприятной истории» подавления государством рабочего класса и восстает против нее. В то же время я бы сказала, что «Битва при Оргриве» также ставит вопрос о том, что мы сегодня имеем в виду, называя некое произведение искусства «политическим». Примечательно, что многие комментаторы посчитали это действо политически уклончивым, особенно по сравнению с открытой пристрастностью документального фильма Фиггиса и деллеровского собрания устных историй, в котором предпочтение отдано позиции протестующих. Другие, как, например, Элис Коррейя, утверждают, что проект был необъективным: «приписывая бастующим шахтерам „правоту", а спецподразделениям полиции „неправоту", „Оргрив" несколько упрощает картину, поскольку обходит вопрос того, куда в ней поместить шахтеров, которые не участвовали в забастовке». Критик-марксист Дэйв Бич объясняет, что, хотя цели Деллера были «политическими» (переписать историю снизу), привлечение реконструкторских клубов дискредитировало эти намерения, сделав «Битву при Оргриве» «изображением» политики, а не политическим искусством, и, вопреки благим намерениям Деллера, использование этих организаций в конечном счете поставило проект на сторону «полиции, государства и тэтчеровского правительства». По мнению других критиков, сама перформативность «Оргрива» сделала его чем-то большим, нежели просто работой «по поводу» шахтерской стачки, поскольку перформанс является способом поддерживать сознательное отношение к истории через опыт ее переживания. Художники Каммингс и Левандовска считают, что это «сложное, глубокое и провокационное произведение современного искусства, использующее наследие марксистской культурной критики, чтобы стремительным и ярким жестом внести один из элементов этой идеологии в настоящее». Для самого автора «Оргрив» — это «бесспорно политическая работа», хотя ей и пришлось придать более нейтральный вид, чтобы обеспечить сотрудничество с реконструкторскими клубами. Поскольку этот проект посвящен памяти об одном из последних вздохов классовой борьбы в Британии, можно также добавить, что он является и размышлением о том, как изменился эстетический лексикон социальных протестных движений со времен 1980-х, по мере того как организованное классовое сопротивление превратилось в расползающееся и ацефалическое сопротивление глобализации с его «множеством» позиций и союзов, более не выстраиваемых вокруг какого-либо класса.
В этом небольшом обзоре реакций на «Битву в Оргриве» понятие «политическое» имеет несметное число коннотаций: оно обозначает повод для забастовки, конфликт между населением и правительством, усвоение точки зрения рабочего класса, неспособность художника сопротивляться государственной кооптации, осовременивание в художественном проекте основных положений марксизма, перформанс как способ критического представления истории и ностальгическое использование символики рабочих протестов. Единственный способ объяснить «политическое» здесь — это использовать рансьеровское понятие метаполитики, дестабилизирующего действия, порождающего диссенсус относительно того, что в этом мире выразимо и мыслимо. В то же время этот вывод кажется неподходящим для описания специфических групповых интересов, действующих в «Битве при Оргриве» (в данном случае — в ее качестве истории рабочей забастовки, подавленной правыми у власти). То, что мы называем «Оргрив» метаполитическим проектом, не особенно помогает нам артикулировать очевидную — но далеко не однозначную — идеологическую позицию работы Деллера: это не прямолинейная реконструкция того типа, который принят у клуба «Запечатанный узел», но и не агитпроп, не активистский театр, продвигающий конкретную политическую идею. В таком случае было бы заманчивым заявить, что «Оргрив» стал столь известным примером партиципаторного искусства не только потому, что в 2000-е был одним из его самых первых и высококлассных образцов, но и потому, что эстетические решения Деллера реорганизовали традиционные способы выражения левой политики в искусстве. Деллер не стал восхвалять рабочих как некую бесспорно героическую величину, а противопоставил их среднему классу, чтобы написать универсальную историю угнетения, тем самым подрывая не только традиционные ходы левого искусства, но также идентификационные схемы и тональность, в которой они обычно преподносятся.
куртка шахтера со значками кампании; место проведения реенактмента; участники реенактмента — бывшие шахтеры. © Jeremy Deller
Тот факт, что «Битву при Оргриве» можно закидать столь разными суждениями, а она в итоге останется невредимой, говорит о художественной полноте работы: она может приспособиться к различным критическим суждениям, даже противоречащим друг другу. «Оргрив» также подтверждает скудость стремления оценивать социальные художественные проекты как хорошие или плохие модели коллаборации. «Оргрив» создавался не как попытка исправить социальную разобщенность (или «восстановить социальное единство») — он использует более сложное представление о социальной истории и истории искусства. Он использует потенциал опыта коллективного присутствия и политических демонстраций, чтобы исправить историческую память, но также (как указывает название сопровождающего проект архива) стремится выйти за пределы забастовки шахтеров 1984–1985 годов и стать символическим обозначением всех нарушений принципов правосудия и всех актов политического подавления. Вопреки господствующему дискурсу о социально ангажированном искусстве, Деллер принимает роль подавляющего самого себя художника-посредника и вынужден отвечать на обвинения в эксплуатации своих многочисленных соавторов. Он встает в позицию режиссера-инициатора, сотрудничающего с продюсерским агентством (Artangel), кинорежиссером (Фиггисом), специалистом по реконструкции исторических сражений (Говардом Джайлсом) и сотнями участников. Его авторская роль — служить импульсом (а не принимать окончательные решения) для события, которое иначе не произошло бы, поскольку его концептуализация слишком своеобразна и спорна для социально ответственных институций. Коротко говоря, эффект «Битвы при Оргриве» вытекает из ее уникальности, а вовсе не из ее образцовости как воспроизводимой модели.
Освобожденные зрители
Следует подчеркнуть, что столь широкое обсуждение «Оргрива» возможно лишь потому, что работа учитывает диспозитив опосредования по отношению к живому перформансу. Многогранность «Битвы при Оргриве» позволяет ей доходить до различных кругов аудитории: непосредственных участников мероприятия в 2001 году, тех, кто наблюдал за ними на поле (в основном жителей Йоркшира), тех, кто посмотрел фильм Фиггиса по телевидению (Channel 4, 20 октября 2002 года) или купил DVD, тех, кто прочитал книгу и послушал интервью на компакт-диске, и тех, кто просматривает архив/инсталляцию в собрании галереи Тейт. В этих разнообразных формах «Битва при Оргриве» умножает и перераспределяет такие категории истории искусства, как историческая живопись, перформанс, документальное кино и архив, обеспечивая их взаимодействие с любительским театром и исторической реконструкцией.
Конечно, в этот момент обычно звучит возражение, что художники, которые выставляют свои работы в галереях и музеях, дискредитируют воплощенные в своих проектах социально-политические устремления; честнее было бы вообще не иметь отношений с коммерческой сферой, даже если значит потерять часть аудитории. Считается, что галерея не только способствует пассивному режиму восприятия (по сравнению с активным участием в производстве коллаборативного искусства), но и поддерживает иерархии элитарной культуры. Даже если искусство задействует «обычных людей», оно в конечном счете производится для посетителей галерей, принадлежащих к среднему классу, и богатых коллекционеров. Это рассуждение можно опровергнуть несколькими способами. Во-первых, мысль о том, что документация перформанса (видео, архив, фотографии) является предательством подлинного, непосредственного события, критиковалась многими теоретиками, начиная с Пегги Фелан. Во-вторых, бинарная оппозиция активного и пассивного преследует любое обсуждение партиципаторного искусства и театра, так что в конце концов участие превращается в самоцель: по точному замечанию Рансьера, «даже когда драматург или исполнитель не знает, чего он хочет от зрителя, он по крайней мере знает одно: зритель должен сделать что-то — перейти от пассивности к активности». Требование активации выдвигается как противоположность ложному сознанию и как воплощение сути искусства (или театра) как реальной жизни. Но бинарность активного/пассивного всегда заводит в тупик: либо пренебрежение зрителем, который не делает ничего, пока исполнители на сцене что-то делают, либо обратное утверждение, будто те, кто действует, ниже тех, кто смотрит, созерцает идеи и держится на критической дистанции от мира. Эти позиции можно поменять местами, но структура останется той же. Как отмечает Рансьер, обе позиции разделяют людей на способных и неспособных. Таким образом, бинарность активных/пассивных форм ограниченна и непродуктивна, поскольку служит лишь аллегорией неравенства.
Конечно, в этот момент обычно звучит возражение, что художники, которые выставляют свои работы в галереях и музеях, дискредитируют воплощенные в своих проектах социально-политические устремления; честнее было бы вообще не иметь отношений с коммерческой сферой, даже если значит потерять часть аудитории. Считается, что галерея не только способствует пассивному режиму восприятия (по сравнению с активным участием в производстве коллаборативного искусства), но и поддерживает иерархии элитарной культуры. Даже если искусство задействует «обычных людей», оно в конечном счете производится для посетителей галерей, принадлежащих к среднему классу, и богатых коллекционеров. Это рассуждение можно опровергнуть несколькими способами. Во-первых, мысль о том, что документация перформанса (видео, архив, фотографии) является предательством подлинного, непосредственного события, критиковалась многими теоретиками, начиная с Пегги Фелан. Во-вторых, бинарная оппозиция активного и пассивного преследует любое обсуждение партиципаторного искусства и театра, так что в конце концов участие превращается в самоцель: по точному замечанию Рансьера, «даже когда драматург или исполнитель не знает, чего он хочет от зрителя, он по крайней мере знает одно: зритель должен сделать что-то — перейти от пассивности к активности». Требование активации выдвигается как противоположность ложному сознанию и как воплощение сути искусства (или театра) как реальной жизни. Но бинарность активного/пассивного всегда заводит в тупик: либо пренебрежение зрителем, который не делает ничего, пока исполнители на сцене что-то делают, либо обратное утверждение, будто те, кто действует, ниже тех, кто смотрит, созерцает идеи и держится на критической дистанции от мира. Эти позиции можно поменять местами, но структура останется той же. Как отмечает Рансьер, обе позиции разделяют людей на способных и неспособных. Таким образом, бинарность активных/пассивных форм ограниченна и непродуктивна, поскольку служит лишь аллегорией неравенства.
Это наблюдение можно развить дальше: высокая культура, какой она предстает в художественных галереях, производится от имени и для господствующих классов; «люди» (маргинализированные, исключенные), напротив, могут быть освобождены лишь через прямое включение в производство работы. Эта концепция — лежащая в том числе в основе программ финансирования искусства, находящихся под влиянием политики социального включения, — предполагает, что бедные могут участвовать лишь физически, тогда как средние классы обладают досугом для того, чтобы думать, заниматься критической рефлексией. Одним из последствий этой концепции становится восстановление предрассудка о том, что деятельность рабочего класса ограничивается ручным трудом. Это напоминает социологическую критику искусства, которая рассматривает эстетику как заповедник для элит, тогда как «обычные люди» якобы предпочитают популярное, реалистическое искусство, связанное с жизнью. Как утверждает Рансьер, выступая с разгромной критикой «Различения» (1979) Пьера Бурдье, социолог-интервьюер заранее объявляет результаты и выясняет то, что уже подразумевали его вопросы: все так, как и должно быть. Заявляя, как это в один голос делают финансирующие организации и приверженцы коллаборативного искусства, что социальное участие особенно хорошо подходит для целей социального включения, мы рискуем не только увериться, будто участники уже беспомощны, но и укрепить такое положение вещей. Для нас же особенно важно, что Рансьер показывает, как Бурдье сохраняет статус-кво, избегая прямой конфронтации с «эстетической вещью». У Бурдье серая зона эстезиса исключена:
Вопросы о музыке без музыки, надуманные вопросы об эстетике фотографий, которые не воспринимаются как эстетические — все это неизбежно производит то, что требуется социологу, — устранение посредников, точек встречи и обмена между людьми воспроизводства и элитой различия.
Мысль Рансьера важна для привлечения внимания к художественному произведению как объекту-посреднику, «третьему члену», с которым могут соотноситься и художник, и зритель. Дискуссии о партиципаторном искусстве и его документации часто используют похожие исключения: если не касаться «эстетической вещи», произведения во всей его уникальности, то все остается в границах, таким, каким должно быть, в подчинении застывшего статистического утверждения потребительной стоимости, непосредственного эффекта и забот о моральной безупречности. В отсутствие возможности порвать с этими категориями все это остается не более чем платоновским определением правильного «общественного» места для тел — этическим режимом образов, а не эстетическим режимом искусства.
Однако в любом искусстве, использующем людей в качестве медиума, этика никогда не исчезает полностью. Задача в том, чтобы приблизить эту проблему к эстезису. И здесь возникают такие важнейшие понятия, как наслаждение и подрыв, а также их слияние в психоаналитических подходах к созданию и восприятию искусства. В текстах об искусстве и художниках психоанализ вышел из моды, однако эта дисциплина располагает словарем, который может быть полезен для диагностирования того пристального этического взгляда, который порождают многие проекты в партиципаторном искусстве. В своем седьмом семинаре, посвященном этике психоанализа, Жак Лакан связывает его с эстетикой через рассуждение о сублимации, предлагая этику, основанную на прочтении Канта в духе де Сада. Противопоставляя индивидуальное наслаждение (jouissance) применению универсальной максимы, Лакан утверждает, что для субъекта более этично действовать в соответствии со своим (бессознательным) желанием, чем менять свое поведение ради взгляда Большого Другого (общества, семьи, закона, предполагаемых норм). Сосредоточенность на индивидуальных потребностях не означает исключения социального — наоборот, индивидуальный анализ всегда происходит на фоне социальных норм и социального давления. Лакан связывает этическую позицию с «прекрасным», говоря об Антигоне, которая после смерти брата нарушает закон, чтобы остаться у его тела за городскими стенами. Антигона — пример субъекта, который не оставляет своего желания: она упорствует в том, что ей нужно сделать, сколько бы стеснений и сложностей ни приносила эта задача (ключевая фраза здесь — цитата из «Безымянного» Беккета: «Я не могу продолжать, я продолжу»). Лакан связывает эту этическую позицию с искусством, которое провоцирует разрыв, подвешивая и обезоруживая желание (вместо того чтобы гасить и сдерживать его). В его схеме искусство, предоставляющее полную свободу желанию, открывает доступ к субъективному «благу».
Вопросы о музыке без музыки, надуманные вопросы об эстетике фотографий, которые не воспринимаются как эстетические — все это неизбежно производит то, что требуется социологу, — устранение посредников, точек встречи и обмена между людьми воспроизводства и элитой различия.
Мысль Рансьера важна для привлечения внимания к художественному произведению как объекту-посреднику, «третьему члену», с которым могут соотноситься и художник, и зритель. Дискуссии о партиципаторном искусстве и его документации часто используют похожие исключения: если не касаться «эстетической вещи», произведения во всей его уникальности, то все остается в границах, таким, каким должно быть, в подчинении застывшего статистического утверждения потребительной стоимости, непосредственного эффекта и забот о моральной безупречности. В отсутствие возможности порвать с этими категориями все это остается не более чем платоновским определением правильного «общественного» места для тел — этическим режимом образов, а не эстетическим режимом искусства.
Однако в любом искусстве, использующем людей в качестве медиума, этика никогда не исчезает полностью. Задача в том, чтобы приблизить эту проблему к эстезису. И здесь возникают такие важнейшие понятия, как наслаждение и подрыв, а также их слияние в психоаналитических подходах к созданию и восприятию искусства. В текстах об искусстве и художниках психоанализ вышел из моды, однако эта дисциплина располагает словарем, который может быть полезен для диагностирования того пристального этического взгляда, который порождают многие проекты в партиципаторном искусстве. В своем седьмом семинаре, посвященном этике психоанализа, Жак Лакан связывает его с эстетикой через рассуждение о сублимации, предлагая этику, основанную на прочтении Канта в духе де Сада. Противопоставляя индивидуальное наслаждение (jouissance) применению универсальной максимы, Лакан утверждает, что для субъекта более этично действовать в соответствии со своим (бессознательным) желанием, чем менять свое поведение ради взгляда Большого Другого (общества, семьи, закона, предполагаемых норм). Сосредоточенность на индивидуальных потребностях не означает исключения социального — наоборот, индивидуальный анализ всегда происходит на фоне социальных норм и социального давления. Лакан связывает этическую позицию с «прекрасным», говоря об Антигоне, которая после смерти брата нарушает закон, чтобы остаться у его тела за городскими стенами. Антигона — пример субъекта, который не оставляет своего желания: она упорствует в том, что ей нужно сделать, сколько бы стеснений и сложностей ни приносила эта задача (ключевая фраза здесь — цитата из «Безымянного» Беккета: «Я не могу продолжать, я продолжу»). Лакан связывает эту этическую позицию с искусством, которое провоцирует разрыв, подвешивая и обезоруживая желание (вместо того чтобы гасить и сдерживать его). В его схеме искусство, предоставляющее полную свободу желанию, открывает доступ к субъективному «благу».
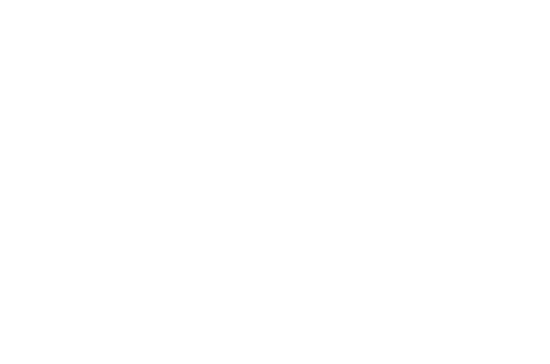
граффити недалеко от места столкновения, 1984-85 год. © Jeremy Deller
Лакановское рассуждение можно продолжить мыслью о том, что наиболее актуальные на сегодняшний день формы художественной практики происходят из необходимости переосмыслить связь между индивидуальным и коллективным через болезненное удовольствие вместо того чтобы подчиняться подавляющему ощущению социальных обязательств. Самые яркие, впечатляющие и знаменательные формы участия появляются не тогда, когда художники покоряются предписанию супер-эго производить улучшающее искусство, а когда они дают волю гложущему их социальному любопытству, преодолевая обездвиживающие ограничения вины. Именно эта верность сингуляризированному желанию, а не социальному консенсусу, сближает такие работы с традицией ситуаций с ярко выраженным авторством, которые сплавляют реальность в единое целое с тщательно выверенным вымыслом (несколько таких примеров обсуждаются в последующих главах). В этих проектах интерсубъективные отношения не являются самоцелью, а служат исследованию и распутыванию хитросплетения социальных вопросов о политическом участии, аффекте, неравенстве, нарциссизме, классе и правилах поведения.
Дискурсивные критерии партиципаторного и социально ангажированного искусства сегодня уходят от негласной аналогии между антикапитализмом и христианской «праведной душой» — такое этическое рассуждение оказывается неспособным ни включить в себя эстетику, ни осмыслить ее как автономную сферу опыта. В этой модели нет места извращению, парадоксу и отрицанию — операциям столь же важным для эстезиса, как и диссенсус для политического. Взглянув на этические императивы партиципаторного искусства через призму лакановского анализа, мы, возможно, сумеем расширить репертуар способов осмысления партиципаторного искусства и их работы с социальным. Не извлекая искусство из «бесполезной» сферы эстетического, чтобы переместить его в область практического действия, лучшие образцы партиципаторного искусства занимают неопределенную территорию между «искусством, которое становится просто жизнью, и искусством, которое становится просто искусством». Это имеет свои последствия и для политики зрительства: тот факт, что рансьеровская «метаполитика» искусства не является партийной политикой, одновременно создает новые возможности и ограничивает, поскольку ставит нас перед необходимостью рассматривать каждую художественную практику в рамках ее собственного уникального исторического контекста и политических валентностей ее эпохи. Следующая глава, обращаясь к истокам партиципаторного искусства — историческому авангарду, — ставит именно такую проблему перед современным уравниванием участия и демократии, так как начинается с итальянского фашизма.
Дискурсивные критерии партиципаторного и социально ангажированного искусства сегодня уходят от негласной аналогии между антикапитализмом и христианской «праведной душой» — такое этическое рассуждение оказывается неспособным ни включить в себя эстетику, ни осмыслить ее как автономную сферу опыта. В этой модели нет места извращению, парадоксу и отрицанию — операциям столь же важным для эстезиса, как и диссенсус для политического. Взглянув на этические императивы партиципаторного искусства через призму лакановского анализа, мы, возможно, сумеем расширить репертуар способов осмысления партиципаторного искусства и их работы с социальным. Не извлекая искусство из «бесполезной» сферы эстетического, чтобы переместить его в область практического действия, лучшие образцы партиципаторного искусства занимают неопределенную территорию между «искусством, которое становится просто жизнью, и искусством, которое становится просто искусством». Это имеет свои последствия и для политики зрительства: тот факт, что рансьеровская «метаполитика» искусства не является партийной политикой, одновременно создает новые возможности и ограничивает, поскольку ставит нас перед необходимостью рассматривать каждую художественную практику в рамках ее собственного уникального исторического контекста и политических валентностей ее эпохи. Следующая глава, обращаясь к истокам партиципаторного искусства — историческому авангарду, — ставит именно такую проблему перед современным уравниванием участия и демократии, так как начинается с итальянского фашизма.