Breus foundation
Живописный гнозис:
Михаил Ямпольский о художнике
Грише Брускине
Михаил Ямпольский о художнике
Грише Брускине
Несмотря на свою аллегоричность, миры художника Гриши Брускина не поддаются классической искусствоведческой интерпретации. Подобно иконостасу, они отсылают не к чему-то конкретному, а ко всей совокупности советского мира. T&P публикуют отрывок из книги Михаила Ямпольского «Живописный гнозис», которая вышла в издательстве BREUS Publishing.
С того момента как искусство приобрело автономию и расположилось в храмах нового культа — музеях, оно в большой мере отделилось от религии и политики. И с этих пор кризис его легитимации практически никогда не прекращался. Чисто эстетическая, гедонистическая легитимация никогда не была вполне убедительной, а всякая прочая казалась сомнительным «привеском» к эстетике. С момента автономизации искусство прочно связало себя с интерпретационным дискурсом, который безостановочно толкует его произведения и тем самым утверждает их особый статус в обществе. Но и сам этот дискурс (отчасти в связи с неясностью, неопределенностью своего объекта) также пребывает в непреходящем кризисе.
Произведения Брускина взывают к интерпретации способом несколько отличным от того, который принят в искусстве авангарда или шире — modernity и postmodernity. «Лексикон» состоит из серии изображений аллегорических фигур (то ли скульптур, то ли окаменевших «людей»). В статье я останавливаюсь на этой стороне «Лексикона» и показываю, что при всех внешних признаках аллегоричности, то есть наличия некоего символического смысла за картинкой, интерпретировать тут по существу нечего. «Девушка с веслом» отсылает к крайне бедному мерцающему смыслу: культ молодости, спорта, общая идея счастья, а может быть, равенства полов и какой-то новой советской сексуальности. В любом случае нет особого резона интерпретировать такие аллегории. Им не нужна герменевтика.
«Лексикон» и «Алефбет» организованы как серии эмблематических фигур. Но форма их организации разная. «Алефбет» — горизонтально вытянутый гобелен, «Лексикон» — стена, составленная из холстов, более всего напоминающая православный иконостас. Конечно, как и всякое теологическое искусство, иконостас имел развернутую символическую программу. Но центральным тут все-таки было не известное ни на Западе, ни в Византии, ни на Балканах отделение алтарной части от прихожан высокой непроницаемой стеной изображений. Как заметил один исследователь, иконостас является плодом монастырской культуры, с ее «идеалом закрытости по отношению к миру».
Это техника отделения, закрытия. Эта идея изоляции сакрального от мирского получила платоническое обоснование у крупных греческих теологов. Максим Исповедник, например, писал в «Мистагогии»: «...если рассматривать церковь с точки зрения зодчества, то она, являясь единым зданием, допускает различие в силу особого назначения своих частей и делится на место, предназначенное только для иереев и служителей, которое называется у нас алтарем, и место, доступное для всех верующих, именуемое у нас храмом. Но, с другой стороны, она остается единой по ипостаси, не допуская разделения своих частей, [могущее произойти] вследствие различия их между собой. И возводя эти части к своему единству, она освобождает их от выраженного наименованиями различия, являя тождество этих частей».
«Лексикон» и «Алефбет» организованы как серии эмблематических фигур. Но форма их организации разная. «Алефбет» — горизонтально вытянутый гобелен, «Лексикон» — стена, составленная из холстов, более всего напоминающая православный иконостас. Конечно, как и всякое теологическое искусство, иконостас имел развернутую символическую программу. Но центральным тут все-таки было не известное ни на Западе, ни в Византии, ни на Балканах отделение алтарной части от прихожан высокой непроницаемой стеной изображений. Как заметил один исследователь, иконостас является плодом монастырской культуры, с ее «идеалом закрытости по отношению к миру».
Это техника отделения, закрытия. Эта идея изоляции сакрального от мирского получила платоническое обоснование у крупных греческих теологов. Максим Исповедник, например, писал в «Мистагогии»: «...если рассматривать церковь с точки зрения зодчества, то она, являясь единым зданием, допускает различие в силу особого назначения своих частей и делится на место, предназначенное только для иереев и служителей, которое называется у нас алтарем, и место, доступное для всех верующих, именуемое у нас храмом. Но, с другой стороны, она остается единой по ипостаси, не допуская разделения своих частей, [могущее произойти] вследствие различия их между собой. И возводя эти части к своему единству, она освобождает их от выраженного наименованиями различия, являя тождество этих частей».
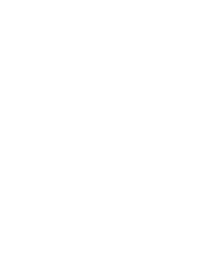
Михаил Ямпольский, «Живописный гнозис»
Фрагмент работы Гриши Брускина «Алефбет», шпалера, 2004-2006
Иными словами, отделяя сакральное от мирского, церковная архитектура создает сложное единство означающего и означаемого, которые (хотя и слиты воедино) оказываются своего рода двумя сторонами знака. Максим далее поясняет: «Для обладающих [духовным] зрением весь умопостигаемый мир представляется таинственно отпечатленным во всем чувственном мире посредством символических образов. А весь чувственный мир при духовном умозрении представляется содержащимся во всем умопостигаемом мире, познаваясь [там] благодаря своим логосам. Ибо чувственный мир существует в умопостигаемом посредством своих логосов, а умопостигаемый в чувственном — посредством своих отпечатлений. Дело же их одно и, как гово- рил Иезекииль, дивный созерцатель великого, они словно "колесо в колесе" (Иез. 1:16), высказываясь, я полагаю, о двух мирах. Опять же божественный Апостол говорит: "Ибо невидимое Его... от создания мира чрез рассматривание творений видимы" (Рим. 1:20)».
Особенность такого изображения, расположенного на стене между видимым и умопостигаемым мирами, заключается в том, что оно не отсылает ни к чему конкретному, — это икона, не имеющая локализуемого означаемого. В чем-то она похожа на леви-строссовские ману, вакан, оренда — то есть «парящие означающие», не имеющие ясного смысла и способные «опуститься» на любое недетерминированное означаемое. Леви-Стросс называл их «символами в чистом состоянии», способными принять на себя любое «символическое содержание»: «В системе символов, составляющих любую космологию, должно быть нулевое символическое значение, то есть знак обозначающий необходимость в дополнительном символическом содержании, [надстроенном] над и поверх того, которое уже содержится в означаемом, и которое может иметь совершенно любое значение...» Когда Максим Исповедник пишет о том, что «весь умопостигаемый мир представляется таинственно отпечатленным во всем чувственном мире посредством символических образов» он указывает именно на такую неопределимую космогонию, отражение мира в мире, «колеса в колесе», как он выражается. Такого рода символы в принципе не поддаются интерпретации. Можно сказать, что и брускинский «Лексикон» отсылает ко всей совокупности советского мира.
Показательно, что Флоренский, начинает свои размышления об «Иконостасе» разговором о сновидениях, с которыми иконостас онтологически связан: «Сновидение есть знаменование перехода от одной сферы в другую и символ.— Чего? — Из горнего — символ дольнего, и из дольнего — символ горнего. Теперь понятно, что сновидение способно возникать, когда одновременно даны сознанию оба берега жизни, хотя и с разною степенью ясности». Сновидение точно так же не имеет ясного токования и является лишь «знаменованием перехода», то есть всего лишь манифестацией мембраны, соединяющей идеальное и видимое. Флоренский тут очень близок Максиму Исповеднику. Сновидение, как и иконостас, это просто знак перехода, то есть в сущности знак знаковости.
Особенность такого изображения, расположенного на стене между видимым и умопостигаемым мирами, заключается в том, что оно не отсылает ни к чему конкретному, — это икона, не имеющая локализуемого означаемого. В чем-то она похожа на леви-строссовские ману, вакан, оренда — то есть «парящие означающие», не имеющие ясного смысла и способные «опуститься» на любое недетерминированное означаемое. Леви-Стросс называл их «символами в чистом состоянии», способными принять на себя любое «символическое содержание»: «В системе символов, составляющих любую космологию, должно быть нулевое символическое значение, то есть знак обозначающий необходимость в дополнительном символическом содержании, [надстроенном] над и поверх того, которое уже содержится в означаемом, и которое может иметь совершенно любое значение...» Когда Максим Исповедник пишет о том, что «весь умопостигаемый мир представляется таинственно отпечатленным во всем чувственном мире посредством символических образов» он указывает именно на такую неопределимую космогонию, отражение мира в мире, «колеса в колесе», как он выражается. Такого рода символы в принципе не поддаются интерпретации. Можно сказать, что и брускинский «Лексикон» отсылает ко всей совокупности советского мира.
Показательно, что Флоренский, начинает свои размышления об «Иконостасе» разговором о сновидениях, с которыми иконостас онтологически связан: «Сновидение есть знаменование перехода от одной сферы в другую и символ.— Чего? — Из горнего — символ дольнего, и из дольнего — символ горнего. Теперь понятно, что сновидение способно возникать, когда одновременно даны сознанию оба берега жизни, хотя и с разною степенью ясности». Сновидение точно так же не имеет ясного токования и является лишь «знаменованием перехода», то есть всего лишь манифестацией мембраны, соединяющей идеальное и видимое. Флоренский тут очень близок Максиму Исповеднику. Сновидение, как и иконостас, это просто знак перехода, то есть в сущности знак знаковости.
Гриша Брускин, «Фундаментальный лексикон», фарфор, 1998–1999.
Но есть в работе Флоренского и попытка провести различие между пустой знаковостью и насыщенностью смыслом. Это различие существенно, так как проводит грань между изобразительным текстом, который открывает перспективу интерпретации, и тем, который такой перспективы не открывает. Флоренский пишет о противоположности «видений от скудности и видений от полноты». Это различие концептуализируется Флоренским как различие между ликом и личиной. Лицо, согласно теологу, — это некая видимость, данная нам в реальности. Тогда, когда в нем проступает божественный прообраз, оно становится ликом. Лик — это видимость, в которой читается платоновская идея: «...по-гречески лик называется идеей — είδος, ιδέα — и <...> в этом именно смысле лика — явленной духовной сущности, созерцаемого вечного смысла, пренебесной красоты некоторой действительности, ее горнего первообраза, луча от источника всех образов,— было использовано слово идея Платоном...»
Личина — противоположность лика — и ни к чему не отсылает. Это знак с пустым, означаемым: «Полную противоположность лику составляет слово личина. Первоначальное значение этого слова есть "маска", "ларва" — larvæ (лат.), — чем отмечается нечто подобное лицу, похожее на лицо, выдающее себя за лицо и принимаемое за таковое, но пустое внутри как в смысле физической вещественности, так и в смысле метафизической субстанциональности. <...> Характерно, что слово "larvæ" получило уже у Римлян значение астрального трупа, "пустого"8 — inanis (лат.), бессубстанциального клише, оставшегося от умершего, то есть темной, безличной вампирической силы, ищущей себе для поддержки и оживления свежей крови и живого лица, которое эта астральная маска могла бы облечь, присосавшись и выдавая это лицо за свою сущность. Замечательно, что в учениях самых различных даже терминологически выражается вполне единообразно основной признак, лжереальность, этих астральных останков: в частности, в каббале они называются "клипот", "шелуха", а в теософии — "скорлупами"».
Фигуры брускинского «Лексикона» идеально подходят под описание личин, ларв, шелухи и скорлуп. Это означающие, не имеющие подлинной символической силы, это девушки с веслом, которые, хотя и разбросаны по советским паркам, но в сущности ничего не значат. Флоренский, мне кажется, прав, когда связывает вампирический ужас этих ларв с «видениями от скудности». Вселяемый ими ужас отчасти связан с тем, что они не имеют смысла. Это ужас интерпретационного тупика.
Личина — противоположность лика — и ни к чему не отсылает. Это знак с пустым, означаемым: «Полную противоположность лику составляет слово личина. Первоначальное значение этого слова есть "маска", "ларва" — larvæ (лат.), — чем отмечается нечто подобное лицу, похожее на лицо, выдающее себя за лицо и принимаемое за таковое, но пустое внутри как в смысле физической вещественности, так и в смысле метафизической субстанциональности. <...> Характерно, что слово "larvæ" получило уже у Римлян значение астрального трупа, "пустого"8 — inanis (лат.), бессубстанциального клише, оставшегося от умершего, то есть темной, безличной вампирической силы, ищущей себе для поддержки и оживления свежей крови и живого лица, которое эта астральная маска могла бы облечь, присосавшись и выдавая это лицо за свою сущность. Замечательно, что в учениях самых различных даже терминологически выражается вполне единообразно основной признак, лжереальность, этих астральных останков: в частности, в каббале они называются "клипот", "шелуха", а в теософии — "скорлупами"».
Фигуры брускинского «Лексикона» идеально подходят под описание личин, ларв, шелухи и скорлуп. Это означающие, не имеющие подлинной символической силы, это девушки с веслом, которые, хотя и разбросаны по советским паркам, но в сущности ничего не значат. Флоренский, мне кажется, прав, когда связывает вампирический ужас этих ларв с «видениями от скудности». Вселяемый ими ужас отчасти связан с тем, что они не имеют смысла. Это ужас интерпретационного тупика.
