Психофизиология живописи:
почему картины импрессионистов пробуждают в нас эмоции
Текст: Мария Смирнова / Иллюстрация: Пьер Огюст Ренуар
В массовом сознании научный — или рационалистический — тип мышления обычно противопоставляется творческому. На деле же наука и искусство состоят в значительно более тесной связи, чем кажется на первый взгляд. Например, эффект, который производят на человека работы художников-импрессионистов, можно объяснить не только в искусствоведческих терминах, но и в контексте основных категорий системной психофизиологии. Как это сделать, рассказал T&P Юрий Александров, доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН.
«Художник нам изобразил // Глубокий обморок сирени // И красок звучные ступени // На холст как струпья наложил // Он понял масла густоту, — // Его запекшееся лето // Лиловым мозгом разогрето, // Расширенное в духоту» — так описал творческий метод импрессионизма в 1932 году Осип Мандельштам, в первом же двустишии стихотворения, посвященного картине Клода Моне «Сирень на солнце», чрезвычайно точно подметив, чем именно отличается живопись импрессионистов от живописи их предшественников. Художник-импрессионист не просто изображает ветку сирени, а стремится передать впечатление, которое она на него производит.
Одной из ключевых задач импрессионизма стал уход от детализирующей фотографичности реализма. Предполагалось, что, устранив фотографичность, живописцы смогут внести в картину переживание, субъективность отражения. Не с нуля внести, конечно, а добавить. Фотографирование тоже ведь отчасти субъективно: куда направить объектив, какой именно момент запечатлеть — решает фотограф.
Одной из ключевых задач импрессионизма стал уход от детализирующей фотографичности реализма. Предполагалось, что, устранив фотографичность, живописцы смогут внести в картину переживание, субъективность отражения. Не с нуля внести, конечно, а добавить. Фотографирование тоже ведь отчасти субъективно: куда направить объектив, какой именно момент запечатлеть — решает фотограф.
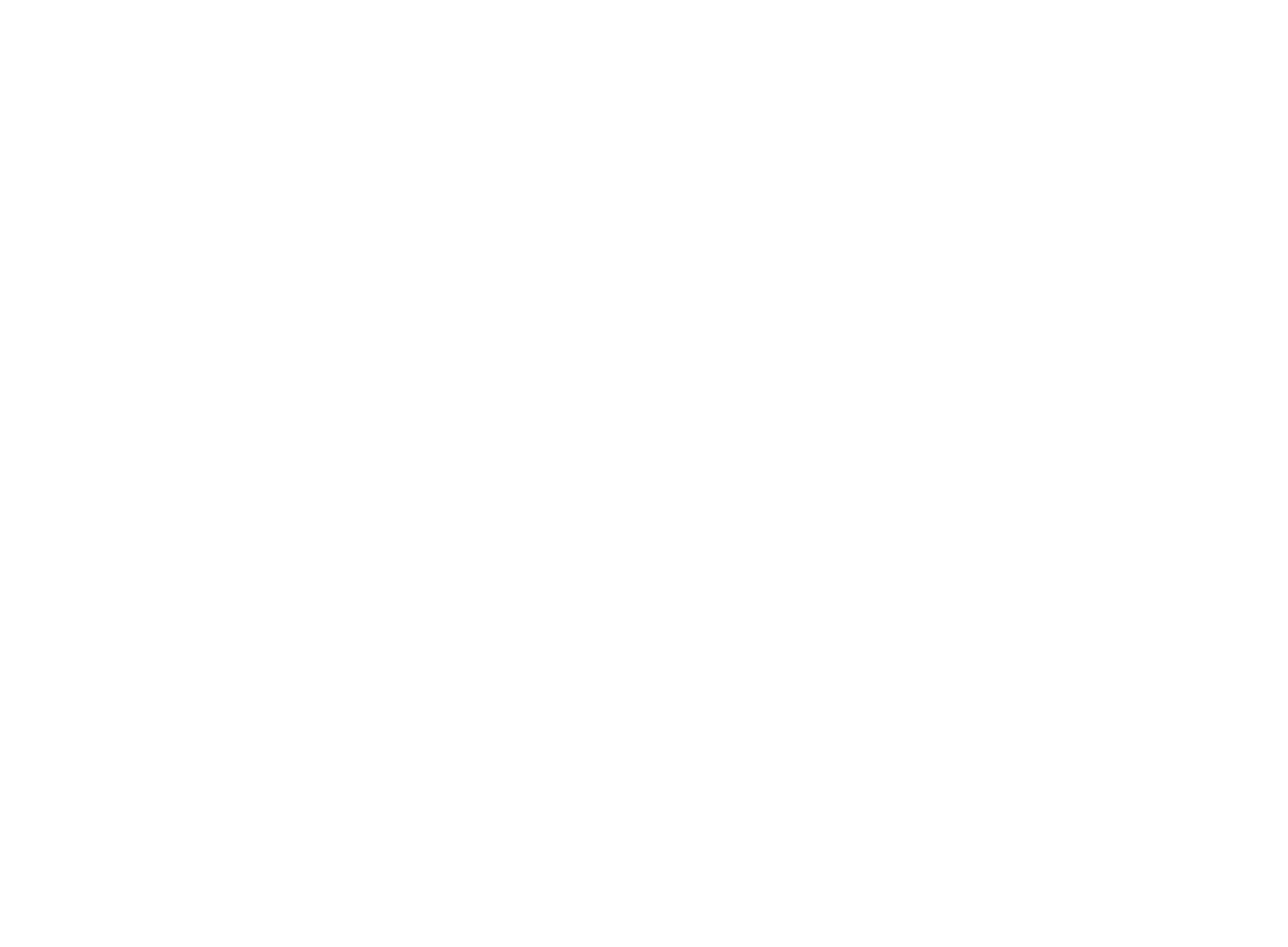
Клод Моне. «Сирень на солнце»
Глядя на картины импрессионистов, невольно задаешься вопросом: как художникам удалось вложить в свои работы столько эмоций? Хотя, пожалуй, вернее было бы спрашивать, что именно происходит с человеком и его внутренним, субъективным миром, когда он смотрит на полотна Моне, Ренуара, Дега? Как у импрессионистов получилось отобразить свои эмоции настолько ярко, что они эффективно передаются наблюдателю? Что происходит в субъективном мире наблюдателя при знакомстве с импрессионистской живописью? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять, как устроен субъективный мир, а для этого — выяснить, как он формируется и какое место в нем занимают эмоции.
«Память можно сравнить с годичными кольцами дерева, только каждое кольцо здесь — след не прошедшего года, а нового научения»
«Наш субъективный мир формируется при взаимодействиях с внешней средой, — говорит Юрий Иосифович. — Начинаются эти взаимодействия еще в утробе матери и продолжаются на протяжении всей жизни. Следами таких взаимодействий, хранящимися в памяти, являются сформировавшиеся в процессе системы, или элементы субъективного мира, — модели соотношения индивида со средой. Если человеку нужно повторить взаимодействие, соответствующая модель активируется, то есть извлекается из памяти. Вновь образованные модели не заменяют сформированные ранее, на предыдущих этапах жизни, а прибавляются к ним. Таким образом, память индивида можно сравнить с геологическими слоями. Один из наиболее известных отечественных психологов Лев Выготский считал крайне плодотворной идею о том, что структура поведения в некотором отношении напоминает геологическую структуру земной коры. Еще память можно сравнить с годичными кольцами дерева, только каждое кольцо здесь — след не прошедшего года, а нового научения. Чем больше мы учимся, тем больше в памяти колец.
Память самых ранних взаимодействий сохраняется на всю жизнь и оказывает влияние на поведение, чувства индивида, на принятие им решений. При этом часто он не может выразить словами, или, как говорят специалисты, «декларировать» наличие материала памяти, рассказать себе или окружающим о том эпизоде его жизни до рождения или в самом раннем детстве, благодаря которому данная система-модель появилась. Видимо, подобная невозможность относится к вполне нормальному явлению, которое называют «инфантильной амнезией» — забвением событий детства».
Память самых ранних взаимодействий сохраняется на всю жизнь и оказывает влияние на поведение, чувства индивида, на принятие им решений. При этом часто он не может выразить словами, или, как говорят специалисты, «декларировать» наличие материала памяти, рассказать себе или окружающим о том эпизоде его жизни до рождения или в самом раннем детстве, благодаря которому данная система-модель появилась. Видимо, подобная невозможность относится к вполне нормальному явлению, которое называют «инфантильной амнезией» — забвением событий детства».
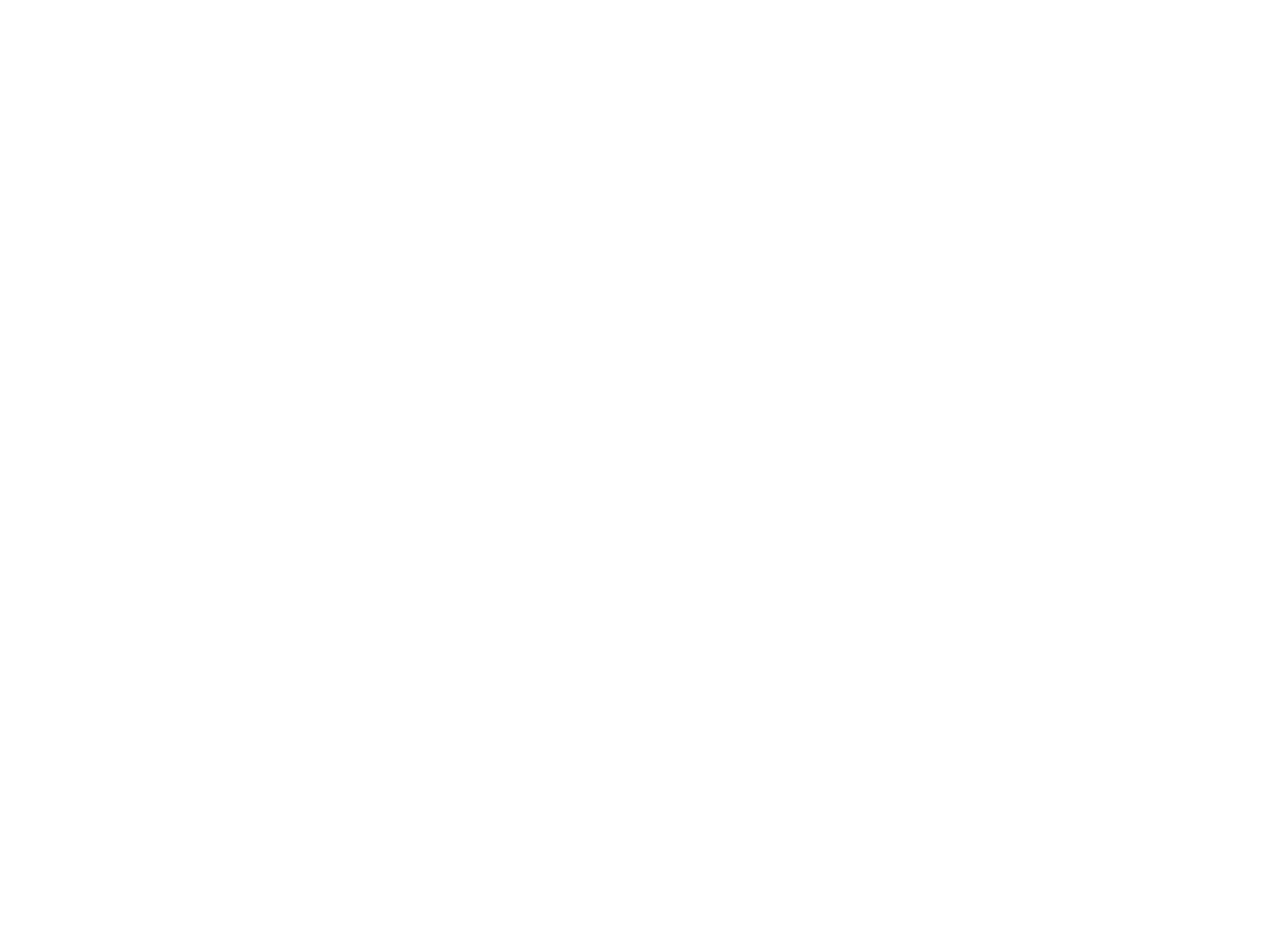
Эдгар Дега. «Репетиция», 1873
Впрочем, существуют исключения: некоторые люди могут воспроизвести воспоминания о самых ранних событиях своей жизни. В знаменитой работе основоположника отечественной нейропсихологии Александра Лурии «Маленькая книжка о большой памяти» описан случай Соломона Шерешевского, обладателя феноменальной памяти, профессионального мнемониста. Шерешевский вспоминает: «Мать я воспринимал так: до того, как я начал ее узнавать, — «это хорошо». Нет формы, нет лица, есть что-то, что нагибается и от чего будет хорошо… <…> — это облачко, потом приятное…»
А вот как воспроизводит свои ранние, относящиеся к возрасту чуть больше двух лет, ощущения Андрей Белый в книге «На рубеже двух столетий»: «Представьте ваше сознание <…> несколько расслабленным <…>, но не угасшим вовсе; я <…> переживаю предметную действительность комнаты <…> как рыбка, живущая в аквариуме, поставленном в комнате; представьте себе эту рыбку сознающим себя ребенком, и вы поймете, что действительность ему подана как сквозь толщу воды». Таким образом, на ранних этапах развития мир воспринимается человеком не в деталях, а размыто, смутно, эмоционально.
«Дело в том, что формирование новых систем в процессе индивидуального развития позволяет нам все более дифференцированно соотноситься со средой, выстраивать свое поведение с учетом все большего числа деталей, — поясняет Юрий Иосифович. — Например, находясь в утробе, плод обеспечивает приток материнской крови и, следовательно, питательных веществ и кислорода к плаценте, совершая самые разнообразные движения. После рождения для той же общей «метаболической» цели становится необходимо совершать движения специализированные: дышать, чтобы получать кислород, осуществлять сосательные движения, захватывая сосок материнской груди (или соску), чтобы получать пищу. Затем оказывается, что, кроме молока, можно получать, например, сок из ложечки, и для этого надо совершать питьевые движения, захватывая ложечку ртом. Потом выясняется, что можно есть и твердую пищу, которую нужно жевать. А еще можно есть из чашки или из тарелки. С помощью разных приборов, разную пищу, совершая разные типы движений и ориентируясь на разные свойства этой пищи, определяемые зрительно, обонятельно, тактильно, по вкусу. Впоследствии человек и вовсе обнаруживает, что пищу получать можно не только дома, но еще и в школе, в кафе, на улице, в гостях, причем ее получение включает целый ряд специфических подготовительных действий и учет множества факторов: например, наличие у тебя свободных денег, а в кафе — свободных мест.
А вот как воспроизводит свои ранние, относящиеся к возрасту чуть больше двух лет, ощущения Андрей Белый в книге «На рубеже двух столетий»: «Представьте ваше сознание <…> несколько расслабленным <…>, но не угасшим вовсе; я <…> переживаю предметную действительность комнаты <…> как рыбка, живущая в аквариуме, поставленном в комнате; представьте себе эту рыбку сознающим себя ребенком, и вы поймете, что действительность ему подана как сквозь толщу воды». Таким образом, на ранних этапах развития мир воспринимается человеком не в деталях, а размыто, смутно, эмоционально.
«Дело в том, что формирование новых систем в процессе индивидуального развития позволяет нам все более дифференцированно соотноситься со средой, выстраивать свое поведение с учетом все большего числа деталей, — поясняет Юрий Иосифович. — Например, находясь в утробе, плод обеспечивает приток материнской крови и, следовательно, питательных веществ и кислорода к плаценте, совершая самые разнообразные движения. После рождения для той же общей «метаболической» цели становится необходимо совершать движения специализированные: дышать, чтобы получать кислород, осуществлять сосательные движения, захватывая сосок материнской груди (или соску), чтобы получать пищу. Затем оказывается, что, кроме молока, можно получать, например, сок из ложечки, и для этого надо совершать питьевые движения, захватывая ложечку ртом. Потом выясняется, что можно есть и твердую пищу, которую нужно жевать. А еще можно есть из чашки или из тарелки. С помощью разных приборов, разную пищу, совершая разные типы движений и ориентируясь на разные свойства этой пищи, определяемые зрительно, обонятельно, тактильно, по вкусу. Впоследствии человек и вовсе обнаруживает, что пищу получать можно не только дома, но еще и в школе, в кафе, на улице, в гостях, причем ее получение включает целый ряд специфических подготовительных действий и учет множества факторов: например, наличие у тебя свободных денег, а в кафе — свободных мест.
«Картины импрессионистов, лишенные фотографической, реалистической точности, обращаются к эволюционно более древним, рано формирующимся в индивидуальном развитии системам»
Здесь важно отметить следующее: эксперименты с регистрацией активности отдельных клеток мозга — нейронов — показывают, что, когда мы осуществляем сравнительно сложное пищедобывательное поведение (например, едим в кафе), у нас активируются не только те высокодифференцированные «пищевые» системы, которые сформировались при первых посещениях точек общепита, но и — одновременно — те, что сформировались на предыдущих, в том числе самых ранних этапах развития.
Если на первых этапах развития индивид (и человек, и животное) дробит мир грубо (на объекты и явления приятные и неприятные, те, к которым хочется приблизиться, или те, которых хочется избежать), то со временем оказывается, что приятное и неприятное — разнообразно, как и способы соотношения с ним. Соотношение со средой на минимальном уровне дифференциации описывается рядом исследователей в терминах «эмоции» или «эмоционально-подобные восприятия». В связи с этими идеями состоит и то, что многие авторы, начиная с Чарльза Дарвина, отмечали, что эмоции, в том числе их мимические проявления, возникают уже на самых ранних этапах развития, уже у плода. И конечно, они имеются у младенцев, в том числе — рожденных преждевременно».
Естественно, эмоции есть и у взрослого человека, который приходит в музей посмотреть на «Кувшинки» Моне и вместо того, чтобы выискивать детали — как он, скорее всего, поступил бы, стоя перед полотном Босха, или восхищаться искусно созданным балансом цвета и тени, что обычно происходит при взгляде на картины Рембрандта, или пытаться мысленно перечислить наименования всех фруктов, лежащих в вазе, чем он с большой вероятностью занялся бы, увидев аллегорический портрет кисти Арчимбольдо, — отдается на волю чувств.
Если на первых этапах развития индивид (и человек, и животное) дробит мир грубо (на объекты и явления приятные и неприятные, те, к которым хочется приблизиться, или те, которых хочется избежать), то со временем оказывается, что приятное и неприятное — разнообразно, как и способы соотношения с ним. Соотношение со средой на минимальном уровне дифференциации описывается рядом исследователей в терминах «эмоции» или «эмоционально-подобные восприятия». В связи с этими идеями состоит и то, что многие авторы, начиная с Чарльза Дарвина, отмечали, что эмоции, в том числе их мимические проявления, возникают уже на самых ранних этапах развития, уже у плода. И конечно, они имеются у младенцев, в том числе — рожденных преждевременно».
Естественно, эмоции есть и у взрослого человека, который приходит в музей посмотреть на «Кувшинки» Моне и вместо того, чтобы выискивать детали — как он, скорее всего, поступил бы, стоя перед полотном Босха, или восхищаться искусно созданным балансом цвета и тени, что обычно происходит при взгляде на картины Рембрандта, или пытаться мысленно перечислить наименования всех фруктов, лежащих в вазе, чем он с большой вероятностью занялся бы, увидев аллегорический портрет кисти Арчимбольдо, — отдается на волю чувств.
Клод Моне. Из серии «Кувшинки», 1917–1919
Интересно, кстати, что, почти на столетие опередив публикацию этого материала, Мандельштам в приведенном выше стихотворении также использовал гастрономические образы, как бы связывая пунктирной линией картины импрессионистов с процессом принятия пищи: «А тень-то, тень все лиловей, // Свисток иль хлыст как спичка тухнет. // Ты скажешь: повара на кухне // Готовят жирных голубей». Последнее двустишие, с одной стороны, резко снижает возвышенный, вдохновенный тон поэта: таинственная лиловая тень сменяется прозаичными жирными голубями. С другой — оно становится попыткой дать право голоса то ли персонажам картины Моне, то ли невидимому собеседнику лирического героя стихотворения. И, наконец, с третьей, апеллирует к эмоциям читателя-зрителя: представление о жирной, тяжелой пище вызывает отвращение, желание избежать ее употребления. Точно также апеллируют к эмоциям зрителя художники-импрессионисты — довольно редко, впрочем, изображая отвратительные предметы и явления.
Эмоции, по словам Юрия Иосифовича, в большей степени характеризуют активацию, извлечение из памяти именно тех систем, которые сформированы на самых ранних этапах индивидуального развития, соответствующих довольно грубому, недетальному дроблению мира и нашего с ним взаимодействия: хорошо — плохо, грустно — радостно, хочу приблизиться — хочу избежать. Сознательность же в большей степени связана с активацией более дифференцированных систем, соотносящих нас с миром деталей и обеспечивающих огромное разнообразие моделей поведения, напрямую от этих деталей зависящих. Понимаю, что хорошо, и хочу приблизиться, но как это сделать? Понимаю, что плохо, и хочу избежать, но каким образом? Образно говоря, активация «старых» систем помогает нам выбрать правильное действие из копилки приближений и избеганий, а активация «новых» дает ответ на вопрос «как?» — какой способ приближения или избегания избрать в данном конкретном случае, учитывая те или иные обстоятельства.
Эмоции, по словам Юрия Иосифовича, в большей степени характеризуют активацию, извлечение из памяти именно тех систем, которые сформированы на самых ранних этапах индивидуального развития, соответствующих довольно грубому, недетальному дроблению мира и нашего с ним взаимодействия: хорошо — плохо, грустно — радостно, хочу приблизиться — хочу избежать. Сознательность же в большей степени связана с активацией более дифференцированных систем, соотносящих нас с миром деталей и обеспечивающих огромное разнообразие моделей поведения, напрямую от этих деталей зависящих. Понимаю, что хорошо, и хочу приблизиться, но как это сделать? Понимаю, что плохо, и хочу избежать, но каким образом? Образно говоря, активация «старых» систем помогает нам выбрать правильное действие из копилки приближений и избеганий, а активация «новых» дает ответ на вопрос «как?» — какой способ приближения или избегания избрать в данном конкретном случае, учитывая те или иные обстоятельства.
Мимолетная сценка, выхваченная глазом Моне из повседневной жизни, словно отделена от зрителя пеленой туманной дымки, и именно она эмоционально вовлекает и отсылает нас к самым ранним представлениям о мироустройстве
«Не только звуковые потоки, но и изображения могут быть разложены на частоты — высокие и низкие, — продолжает Юрий Иосифович. — Причем когда мы говорим об изображениях, то увеличение представленности в частотном описании картины более высоких частот соответствует нарастанию детальности изображения. Ну, это если упрощать. Существуют эксперименты, участникам которых показывают изображения — например, фотографии, — используя фильтры высоких или низких частот. То есть как бы поочередно вычитая эти частоты из изображения. Оказалось, что, если вычитать более высокие частоты, детали, участники эксперимента не могут сказать, кто этот человек, идентифицировать его, но могут сказать, какую эмоцию выражает его мимика. И наоборот: если вычитать низкие частоты, то участники могут идентифицировать человека, но не могут вынести суждения о том, какие эмоции он сейчас испытывает.
В ходе этих экспериментов исследователи анализировали активность мозга участников при просмотре изображений, и оказалось, что низкие частоты связаны с быстрой, грубой, эмоциональной оценкой изображений, которая обеспечивается активностью эволюционно старых мозговых структур: они формируются на ранних этапах индивидуального развития — тогда же, когда формируются низкодифференцированные системы. Высокие частоты, характеризующие детали изображения, связаны с медленным дискретным анализом зрительной картины, обеспечиваемым активностью эволюционно более новых структур, формирующихся на более поздних этапах индивидуального развития. То есть на тех этапах, когда формируются и более дифференцированные системы.
В ходе этих экспериментов исследователи анализировали активность мозга участников при просмотре изображений, и оказалось, что низкие частоты связаны с быстрой, грубой, эмоциональной оценкой изображений, которая обеспечивается активностью эволюционно старых мозговых структур: они формируются на ранних этапах индивидуального развития — тогда же, когда формируются низкодифференцированные системы. Высокие частоты, характеризующие детали изображения, связаны с медленным дискретным анализом зрительной картины, обеспечиваемым активностью эволюционно более новых структур, формирующихся на более поздних этапах индивидуального развития. То есть на тех этапах, когда формируются и более дифференцированные системы.
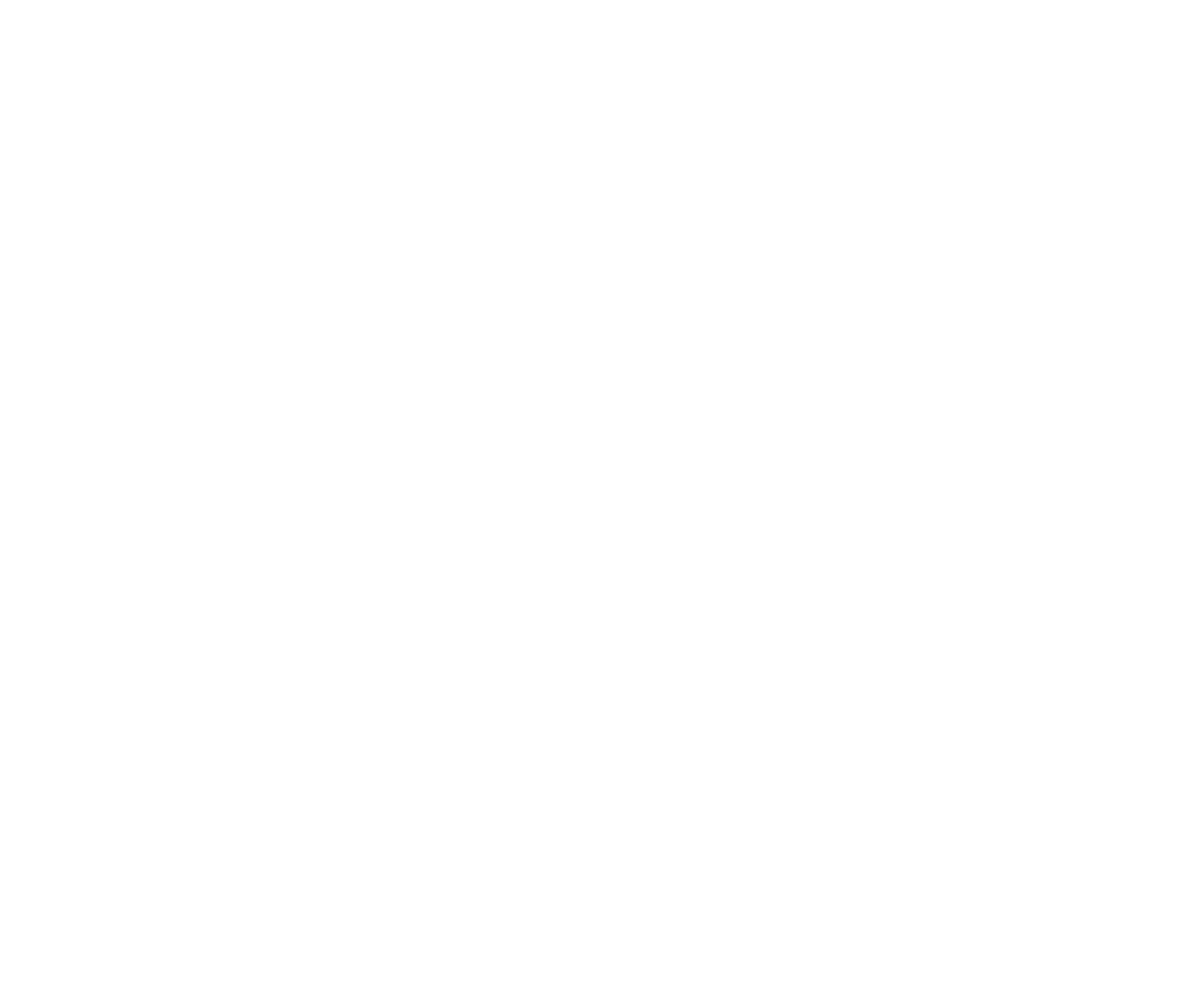
Пьер Огюст Ренуар. «У озера», 1880
Пьер Огюст Ренуар. Портрет актрисы Жанны Самари, 1877
Пьер Огюст Ренуар. «Женщина с зонтиком в саду», 1875
Картины импрессионистов, лишенные фотографической, реалистической точности, понижают роль высокодифференцированных систем и обращаются к эволюционно более древним, рано формирующимся в индивидуальном развитии низкодифференцированным системам, соотносящим нас не с «сознательно» представленным миром анализа и деталей, а с миром, оцениваемым эмоционально, целостно. За счет такого избирательного воздействия картины импрессионистов как бы насильственно переводят нас в эмоциональное состояние. Собственно, феномен импрессионистской живописи в том и заключается, что художники изображали мир таким, каким его видит человек, находящийся в эмоциональном состоянии».
Мандельштам завершает свое стихотворение строфой: «Угадывается качель, // Недомалеваны вуали, // И в этом сумрачном развале // Уже хозяйничает шмель». Детали — качель, вуали — для творческого метода импрессионизма несущественны, да и лица женщин, изображенных на картине Моне «Сирень на солнце», размыты, неясны. Мы ничего не можем сказать ни об их возрасте, ни об их социальном положении, что играло бы важную роль при анализе картины, скажем, Вермеера. Мимолетная сценка, выхваченная глазом Моне из повседневной жизни, словно отделена от зрителя пеленой туманной дымки, и именно эта дымка эмоционально вовлекает нас в происходящее на картине и отсылает к самым ранним представлениям о мироустройстве.
Мандельштам завершает свое стихотворение строфой: «Угадывается качель, // Недомалеваны вуали, // И в этом сумрачном развале // Уже хозяйничает шмель». Детали — качель, вуали — для творческого метода импрессионизма несущественны, да и лица женщин, изображенных на картине Моне «Сирень на солнце», размыты, неясны. Мы ничего не можем сказать ни об их возрасте, ни об их социальном положении, что играло бы важную роль при анализе картины, скажем, Вермеера. Мимолетная сценка, выхваченная глазом Моне из повседневной жизни, словно отделена от зрителя пеленой туманной дымки, и именно эта дымка эмоционально вовлекает нас в происходящее на картине и отсылает к самым ранним представлениям о мироустройстве.

