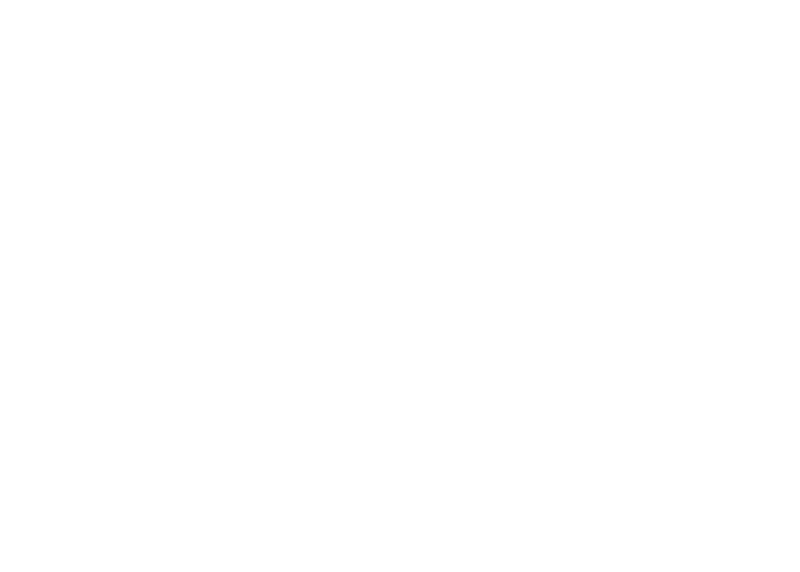«Молодежи сейчас трудно объяснить, что что-то не так»
Лев Рубинштейн о школе, суевериях и поколенческом шовинизме
Лев Рубинштейн о школе, суевериях и поколенческом шовинизме
Интервью: Настя Николаева / Фото: Лена Цибизова
В издательстве Corpus вышла новая книга поэта, публициста Льва Рубинштейна «Причинное время» — сборник эссе, опубликованных в качестве авторских колонок на разных сайтах в 2013–2016-х годах. T&P встретились с Рубинштейном, чтобы расспросить о его школьных воспоминаниях, профессорах из Серебряного века, современных политтехнологиях и о том, что такое «совковая байда».
— В списке из 37 пунктов «Что хотелось бы забыть, но не получается», который вы составляли для журнала Esquire, сначала перечислены учительница Марья Васильевна, завуч, который больно дернул за ухо, англичанка по прозвищу Половник, историк, который говорил «лабровраденческое государство», а после идет отдельный пункт «Вообще школа». Интересно, что, например, я начала учиться в 1995 году, и меня не удивляет, что учитель может дернуть за ухо так, что пойдет кровь. Теперь же родители чуть что — подают в суд, теперь такое маловероятно. Все-таки это личное — или государство, система делают школу такой, что ее хочется забыть?
— Я думаю, что дело здесь даже не в поколениях и не в эпохах, все зависит от школы. Например, моя жена, которая примерно моя ровесница, свою школу вспоминает с большой любовью и благодарностью. У нее до сих пор есть школьные друзья, а я своих забыл через месяц, забыл, кого как звали. Я вспоминаю свою школу как абсолютно репрессивный механизм. Я не ходил в детский сад, привык к свободе, был избалован ей в детстве — мне многое позволялось. Тогда это называлось баловать ребенка, но на самом деле мама просто минимально мне что-либо запрещала, хотя время было в принципе жесткое. Я пошел в школу в 1954 году, только что умер Сталин. Эпоха была репрессивная, дисциплинарная, форма эта (школьная. — Прим. ред.). Для меня школа всегда была вот такой (показывает сложенные на парте руки). Я всегда был, да и до сих пор, между прочим, страшно неусидчив. Это сидение для меня было страшным мучением.
— То есть это ваша личная история.
— Думаю, да. Но мне кажется, что, кроме каких-то записных отличников и подхалимов, все в основном хотели с урока удрать. В школу идти не хотели. Она была как армия. Надо было, надо. А что изменилось, я не знаю, не очень слежу. Школы меняются, вы правы, но мне трудно сказать, что там происходит внутри. Думаю, что в мои годы скорее да, это был общий момент. Хорошие, относительно нормальные школы были исключением. Моя жена окончила знаменитую самую старую французскую спецшколу. Там были какие-то традиции, учителя их водили в походы, они потом после школы с этими учителями дружили, приглашали в гости. А для меня, который окончил другую школу, это было непредставимо вообще. Но это исключение. Они там до сих пор все собираются, хотя школу окончили черт знает когда.
— А каким было студенчество? Как тогда с вами общались преподаватели?
— Ну, во-первых, я был уже взрослый, поэтому более защищенный. А вообще, там было все то же самое, только я уже не так позволял на себя давить. Я окончил пединститут, там была такая же совковая байда.
— Вы говорите «совковая байда», но многим уже не очень понятно, что это, осталась она или нет.
— А она меняется, понимаете? Мы всякую совковую байду в модифицированных формах имеем и сейчас, просто сейчас она по-другому выражается. Но в общем там тоже репрессивность ощущалась.
— Никакой самостоятельности?
— Это даже не рассматривалось. И, в отличие от вас, у нас была еще так называемая ведущая идеология. Поскольку я учился на гуманитарном факультете, то огромную роль играло все это коммунистическое воспитание, всякий марксизм-ленинизм. Было огромное количество дисциплин, ненужных совсем. Какие-то научные атеизмы, коммунизмы, марксистская эстетика. Дело в том, что мы уже были повзрослее и годы были чуть-чуть другие, конец 60-х. Не то чтобы оттепель, но такая разболтанность уже была. Но старые преподаватели были те же, что и в 50-е годы.
— Но советское образование считалось качественным.
— Считалось. Но, понимаете, качественность непонятно чем определялась. Я говорю, в этих заведениях было огромное количество совершенно ненужных, лишних дисциплин. Можно ли считать качественным то, что человек хорошо их знал? Он приезжал в другую страну, где оказывалось, что он не знает вообще ничего, потому что там не нужно хорошо разбираться в истории КПСС. Это и здесь было не нужно, но считалось хорошим образованием, если человек хорошо знал вот это все. Так же как считался огромным, чуть ли не первым в мире, фонд Ленинской библиотеки. Но его 90% — это вот эта литература.
— Коробка из-под тушенки у нас на даче оказалась забитой полным собранием сочинений Ленина.
— Вот именно. Поэтому этот народ — самый читающий в мире, понимаете? Это все оттуда же. Люди брали в библиотеках то, что им нужно было сдать на каком-то экзамене и что они на следующий день забывали, слава тебе господи.
— Потом не стало страны, потом переняли Болонскую систему образования — получается, традиций, важных для этой сферы, о которых вы уже упомянули, осталось не так много. Было ли в советской системе хоть что-то хорошее, что можно было перенять, взять с собой?
— Знаете, мне кажется, все, что и было хорошим, длилось с давних пор. Даже когда я учился, еще существовали какие-то совершенно старорежимные профессора, через которых с 20-х годов, с Серебряного века и тянулась эта тоненькая ниточка, которые знали кого-то там. Но даже если система меняется, люди-то остаются те же. Тут все упирается в антропологию. Даже молодые те же, вот что странно. С мозгами же у русских все нормально, но применения нет. По числу одаренных людей, я думаю, это одно из главных мест. Это, собственно, и есть чудо, надежда. Потому что как бы плохо ни было, может, где-нибудь на Дальнем Востоке сейчас сидит талантливая барышня и что-нибудь такое думает или изобретает. Я недавно прочитал, что была какая-то Международная детская олимпиада по математике, где наши все выиграли. И позорным образом в центральных СМИ об этом — полный молчок. Вот спортивная Олимпиада — это пожалуйста, особенно если еще чем-то накачаться, а гениальные юные математики никому не интересны. Это значит, они вырастут и уедут. Украсят собой Гарвард, или Тель-Авив, или что-то еще.
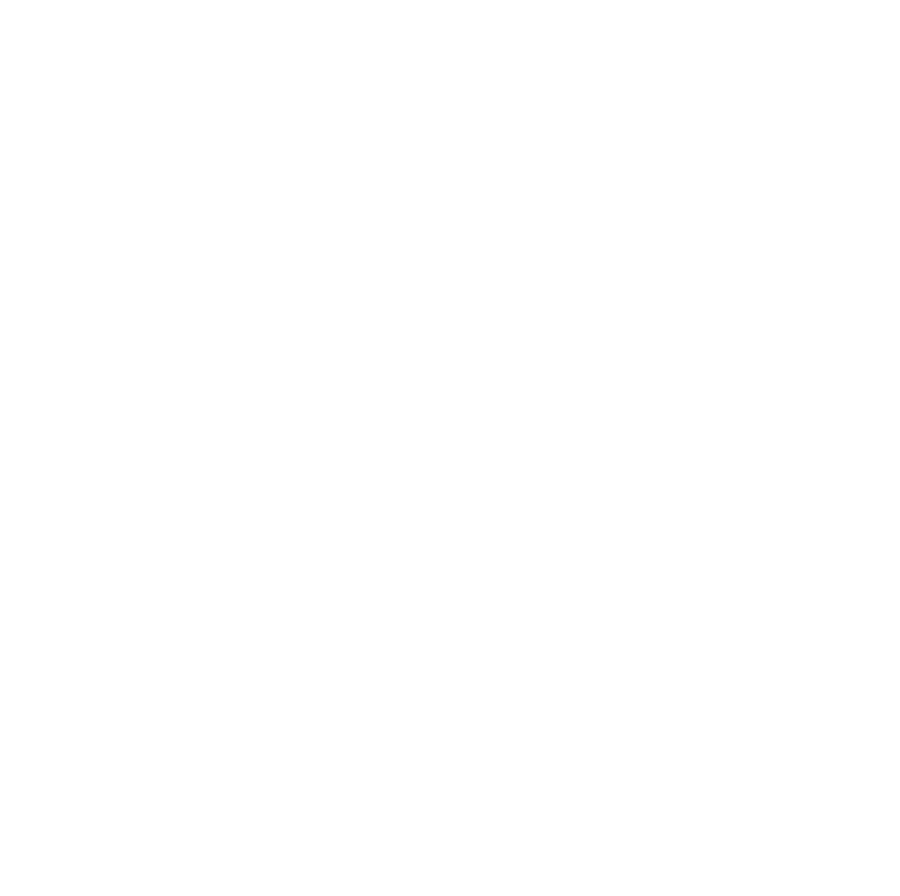
© Лена Цибизова
— В прологе к новой книге «Причинное время» вы пишете про причинно-следственные связи, точнее про то, что мы часто путаем две эти сущности: «Причинно-следственная связь распалась понемногу. И можно смело, не таясь, отправиться в дорогу». Вы там еще упоминаете своего друга, который обратил внимание на советскую песню про коня и поле, которое сначала засеяли, а потом вспахали.
— «Мы c железным конем все поля обойдем. Соберем, и посеем, и вспашем».
— Когда у вас возникло ощущение, что у нас проблемы с причинно-следственными связями? Или оно было всегда?
— Нет, конечно, не всегда, оно появлялось постепенно. Многие же вещи человек с детства воспринимает автоматически, не критически. Понимая мир именно как последовательную череду логических событий или смену идей, я стал замечать это нарушение причинно-следственных связей, которое свойственно очень многим. Самый классический пример — ветер дует, потому что деревья качаются. Это очень свойственно местному сознанию, а еще сознанию так называемых традиционных народов, племен. Россия вроде по многим внешним признакам европейская страна. Но сознание здесь именно вот это.
— «Мы c железным конем все поля обойдем. Соберем, и посеем, и вспашем».
— Когда у вас возникло ощущение, что у нас проблемы с причинно-следственными связями? Или оно было всегда?
— Нет, конечно, не всегда, оно появлялось постепенно. Многие же вещи человек с детства воспринимает автоматически, не критически. Понимая мир именно как последовательную череду логических событий или смену идей, я стал замечать это нарушение причинно-следственных связей, которое свойственно очень многим. Самый классический пример — ветер дует, потому что деревья качаются. Это очень свойственно местному сознанию, а еще сознанию так называемых традиционных народов, племен. Россия вроде по многим внешним признакам европейская страна. Но сознание здесь именно вот это.
— Это какая-то наша особенность?
— Не только наша, но и племен бассейна Амазонки или Центральной Африки. Таких людей много. Я думаю, в цивилизованных странах они тоже есть, только они там не главные.
— Это хорошо объясняет ощущение шизофреничности происходящего. Когда шла Олимпиада, на втором канале сравнивали банки, которые американские спортсмены ставят на спину, с мельдонием.
— Правильно, раздвоенность сознания тоже имеет место. Я это знаю с детства, потому что вырос в коммуналке. На кухне были разговоры вроде этих банок: про то, что одной женщине в очереди в ГУМе незаметно сделали какой-то укол в лопатку. Что ходят по Москве какие-то американские, разумеется, диверсанты и делают людям уколы. Причем, что за укол и зачем, не обсуждалось. Но сам факт, что кому-то незаметно, в очереди… То есть человек вышел из очереди, а у него круги от банок. Но что это значит, не важно. Это типичное шаманское мышление.
— И что для него важно?
— То, что есть какие-то враги. А чего они хотят, не важно. До недавнего времени в деревнях верили в сглаз, в пустые ведра. Это все из этой оперы. Называется суеверием.
— Но многие считают, что на телевидении работают какие-то великие политтехнологи, которые зомбируют людей.
— Они зомбируют, но очень халтурно. Но дело даже не в них, а в готовности огромного числа граждан этому верить. Мы обсуждали с моим знакомым американцем их ужасного Трампа и его перспективы. Я говорю: «Говорят, что он вряд ли». «Ну да, пока кажется, что вряд ли, но. Допустим, он не станет президентом, но куда девать его избирателей? Они же есть, и их много». Поэтому дело не в том, кто зомбирует, а в том, кто зомбируется, кто к этому готов. А их много. Даже при советской власти пропаганда была серьезным институтом. Над этим работали какие-то кафедры, научные институты, люди писали диссертации о том, чем отличается зрелый социализм от развитого. Ученые люди! Как жрецы в Древнем Египте. Они создавали риторику, фразеологию, лексику. Другое дело, что последние десятилетия это уже совсем не работало, потому что превратилось в анекдот, но они этим серьезно занимались. А эти совсем халтурщики. Они понимают, что ничего особенного уметь не надо, что человек просто за тобой идет, как за гипнотизером. Это примитивный провинциальный гипноз. Вы помните начало 90-х годов? Тогда была немыслимая популярность Кашпировского. Это то же самое. Только тогда он был маргинальным человеком, он не был телеведущим, не был депутатом. А сейчас эти провинциальные шарлатаны, колдуны, как бы у власти, с кремлевских башен направляют лучи.
— Понимаю, что странный вопрос, но как нарушить эту эволюцию?
— Полагаю, что не поможет ничего, кроме просвещения. Я не верю ни в какие революции, ни в какие, условно говоря, насильственные действия по исправлению человеческих нравов. Это очень медленная, нудная, рутинная работа. К сожалению, во многих странах, в том числе и в нашей (или, как мы сейчас наблюдаем, в Турции), пленка цивилизованности в ее европейском понимании чрезвычайно тонкая. Достаточно небольшого события, чтобы все это рухнуло в три-четыре дня. Что и случилось с Россией в 17-м году, например. Как Розанов писал: «Россия слиняла в три дня».
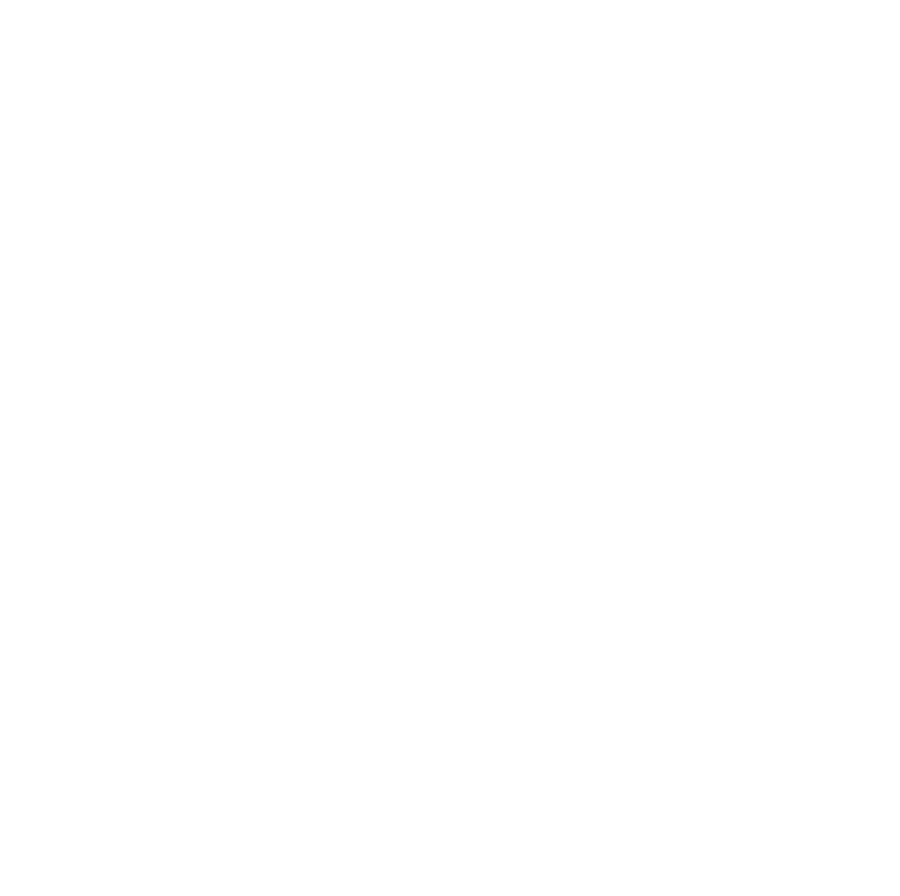
© Лена Цибизова
— Вы еще пишете в одном из эссе про то, что раньше, понятно, история подменялась мифом, но этому мифу всегда предшествовало слово «исторический»…
— В СССР да.
— А сейчас этот миф ни на чем не держится. Говорить можно все что угодно.
— Совершенно верно. В СССР, я уже говорил об этом, была идеология. Она была идиотской, но она была. Ее риторика все время входила в страшное противоречие с практикой. В конце концов противоречие стало таким, что вся эта идеология исчезла. Осталась только практика. (Смеется). Содержание слова «советский», кстати, тоже менялось. Для меня в годы моего становления, то есть в поздние советские — 70-е и первую половину 80-х, — это слово обозначало что-то, во-первых, эстетически убогое, во-вторых, этически тоже убогое, старомодное, чудовищное. Тогда возникло слово «совок», которое определяло очень многие его черты. А сталинский СССР — это другая история. Это замороженность, тотальный страх, который я не застал, потому что, когда Сталин умер, мне было шесть лет. Я это знаю по свидетельству старших товарищей или родителей. То есть я рос в как бы относительно размороженном СССР. И эта размороженность — как все, что размораживается весной и вылезает из-под сугробов с соответствующим запахом. Как размороженные пельмени, которые слипаются и в итоге становятся несъедобными.
— Получается, нас сейчас заново замораживают?
— В том-то и дело, что не получится. То, что сейчас происходит, это не замораживание.
— А что?
— Я не знаю. Это то же гниение, но которое выдает себя за величие, например, или еще за что-то. За всеми риторическими фигурами, которые взяты на вооружение нынешней пропагандой, просто ничего не стоит. Они сами в это не верят, понимаете? Вот в чем дело.
— Такая система более уязвима, чем советская?
— Она и более уязвима, но она и более устойчива. Потому что, когда в СССР у власти была идеология, она была догматичной, не позволяла каких-то проявлений, телодвижений. Было, допустим, слово «интернационализм». На самом деле никакого интернационализма не было, но какие-то слишком явные проявления национализма пресекались. Потому что слишком не соответствовали идеологии. Сейчас этого вообще нет. Сейчас все можно.
— В ваших текстах много поколенческих мотивов: вы рассказываете, на чем выросли, или о том, что культовым местом в 70-е были букинистические магазины, например. А мы росли в 90-е на шизанутых передачах и попсе.
— А вы это вспоминаете как какой-нибудь ужас или как веселое время?
— Как веселое, конечно.
— Вот именно. Так же поколение еще старше моих родителей вспоминали 20-е годы — как жуткую бедность и невероятную веселость.
— Я в связи с 90-ми про серьезность хочу спросить. У вас в новой книге про это тоже есть эссе — «Как важно быть серьезным». Вот мы выросли на том, на чем выросли, и мне всегда казалось, что у нас должно быть отличное чувство юмора, прежде всего по отношению к себе. Но все вокруг как будто очень серьезные. Даже модные люди с бородами часто лишены самоиронии напрочь. Почему?
— Не знаю. Разве так? В моем поколении тоже были люди с чувством юмора и без, но самоирония — это вообще очень редкое человеческое качество. Для нас было совершеннейшей необходимостью как-то шутить, потому что мы жили в абсурдистском мире, надо было как-то этому сопротивляться. Спасались анекдотами и всяким гротеском. Сейчас понятие гротеска вообще исчезло. Оно не нужно, его не может быть, потому что сейчас не может быть ничего такого, чего не было бы в реальности. Ничего нельзя преувеличить. Когда-то было 1 апреля — день, когда разные издания развлекались запуском всяких фейков. Сейчас, когда я читаю новости, я не понимаю, это 1 апреля или что? Тогда было сразу понятно, что это хи-хи, ха-ха, что какие-нибудь войска высадились на обратной стороне Луны. Сейчас можно прочитать и такое. Фейк от нефейка ничем особенно не отличается. Вообще, много чего есть редкого. Талант — редкое качество. Ну и что? Ну редкое!
— Часто слышу, что все талантливые. Нужно просто правильный подход найти.
— Возможно. Все дети рождаются хорошими, потом вдруг оказывается, что они идиоты. Так бывает.
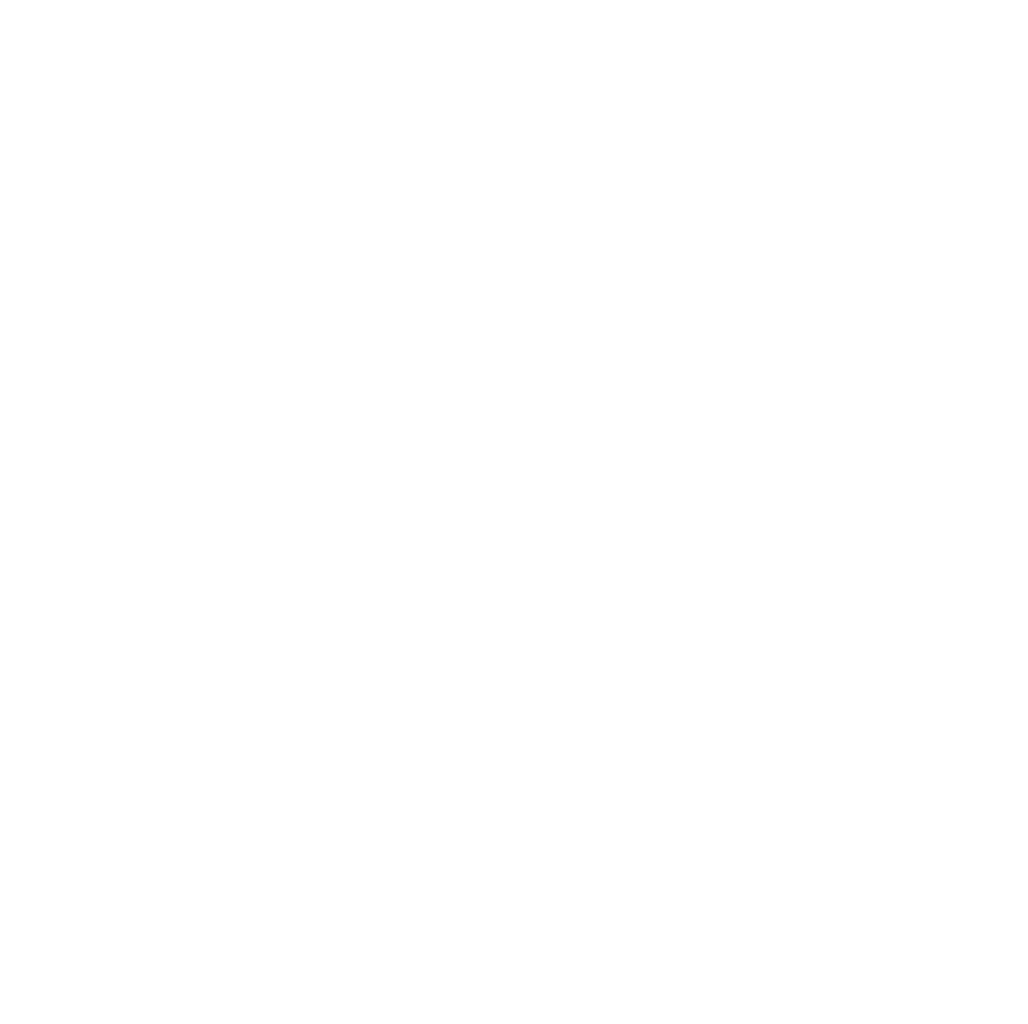
© Лена Цибизова
— Чем поколения, которые выросли в 60-х, 70-х, 80-х, отличаются друг от друга?
— Я вообще не большой сторонник поколенческого подхода. Разумеется, поколения чем-то друг от друга отличаются, прежде всего опытом, но мне не кажется, что я какого-то принципиально другого поколения, чем молодой человек 35 лет, если у нас с ним много общих принципов и так далее. У нас всего лишь разные воспоминания детства. Еще есть поколенческий шовинизм: молодежный или стариковский. То есть пожилые говорят, что вы, молодые, ничего не понимаете, а молодой человек говорит, что вы, пожилые, тоже ничего не понимаете, потому что не ловите покемонов. Я подозрительно отношусь к такому, это все не так. Принадлежность к поколению играет решающую роль для очень ограниченных людей. Конечно, мы чем-то отличаемся. Но при наличии общего языка поколенческая разница не важна.
— Мне просто интересно, на чем строится этот общий язык.
— Его надо искать постоянно, наводить мосты. Любому человеку в какой-то момент хочется ворчать на старших, а потом — на младших. Надо просто искать этот общий язык, как без этого? Но у нас в стране важна не только поколенческая разница. Поскольку она (страна. — Прим. ред.) исторически и географически очень неодинаково иерархична, важна география, а не только биография. Люди, выросшие там-то, во многом не похожи на людей, выросших там-то. Разные приоритеты, разный опыт. За Уралом вообще другая страна, есть русские люди, выросшие вне России — в Балтии или в Средней Азии. У них какая-то своя, другая история. Меня как раз беспокоит, тревожит и огорчает общество в целом тем, что оно не выросло, оно не взрослое. Отсюда как раз идет эта надежда на каких-то взрослых, которые дадут поесть или не дадут, которые тебе что-то должны, или мы им. Под взрослыми всегда понимается власть, или в какие-то демократические времена, как в 90-е, под взрослыми, между прочим, понимался Запад. Такой был период: нам есть нечего, давайте нам гуманитарную помощь, помогайте. Потом мы чуть-чуть отъедимся и скажем, что вы нам только вредите. Подростковое сознание. Не детское, подростковое.
— Откуда оно берется?
— У каждого общества свой возраст и свои модусы созревания, зрелости. Российская история такова, что за все время у нее не было шанса повзрослеть. Не было условий для этого. Что такое 90-е годы? Это 10 лет. Страна всегда самодержавная, психология населения тоже самодержавная: плохой царь — плохо, хороший — хорошо. Те, кто ближе (например, учителя), — плохие. Директор школы, может, ничего. Родители, конечно, дураки, ничего не понимают, но куда мы без них денемся, они нас кормят.
— Их не выбирают.
— Именно.
— И сколько нам лет?
— 14. Пубертат. Себя помните? Я хорошо помню, но стараюсь не вспоминать. Вам сейчас сколько?
— 28.
— Вам, небось, кажется, что вы совсем взрослая? Внутренний возраст есть какой-то?
— Столько же.
— Значит, мы ровесники. Потому что мне примерно 29–31. Я в этом самоощущении остановился, а потом есть какие-то внешние признаки возраста.
— Я вас все спрашиваю про поколения, но вы, пожалуйста, не думайте, что я всех фашистскими методами объединяю в разные группы.
— Нет, группы есть, просто они не всегда совпадают с профессиональным или с поколенческим. Есть такое понятие — страты. Большевики когда-то придумали термин «социально близкие». Он появился тогда, когда начались трудовые лагеря, Беломорканал, когда начали туда отправлять политических. Воры и жулики были объявлены социально близкими, потому что они — пролетарии, но вроде как заблудшие. Их надо перевоспитывать, но они свои. Вот эти гады — контра — они не свои, а эти — свои. Преступники, но социально близкие. Я сам этот термин часто употребляю, потому что действительно существуют социально близкие люди, которых я определяю по манере говорить, кругу чтения, каким-то приоритетам, нравственным иерархиям. Марксистские классы совершенно не работают, домарксистские сословия тоже. Реальны только социальные группы, которые могут объединяться, либо в них может произойти раскол. А по возрасту социализации поколения действительно несколько отличаются, потому что в мое время трудно было представить, чтобы 30-летний человек мог стать большим начальником. Этого не могло произойти. Во-первых, была реальная власть стариков. В соответствии с этим был повышен возраст социального успеха: это была власть пожилых людей не только в Политбюро, но везде. Ректоры институтов, директора заводов были пожилыми и так далее. Это как раз в 90-е годы молодые люди делали быстрые и головокружительные карьеры.
— В нашем спецпроекте «Третий возраст» культуролог Виталий Куренной как раз рассказывает о том, что в российском обществе старость вытеснена куда-то на обочину (на дачу, в гараж), что опыт пожилых оказался невостребованным.
— Абсолютно. Потому что, видимо, такой опыт. Не потому что не захотели этот опыт, а потому что ничего особенного в этом опыте нет. Иногда бывают ярко выраженные молодежные социальные движения. В нашей стране их не было никогда. На Западе это был конец 60-х годов, поколение 68-го года — это, строго говоря, мое поколение, поколение хунвейбинов в Китае — тоже. В каждой стране Запада темы этого молодежного протестного движения были разными, они зависели от конкретных исторических событий. В Штатах это было связано с войной во Вьетнаме, во Франции — с антибуржуазностью, в Германии это поколение тотально обвинило своих родителей не только в активном, но и пассивном нацизме, в том, что они допустили, молчали, что они делали вид, что не знают о существовании концлагерей. Это был поколенческий бунт. Такие вещи бывают редко, а у нас этого не было вообще. Я был бы рад, если бы у нас не радикальная, а какая-нибудь интеллектуальная молодежь выработала концепцию и ткнула поколение родителей носом куда-нибудь. Я бы к этому поколению примкнул, потому что у меня самого к своему поколению много претензий. Если нас обвинят в конформизме, в цинизме, все это будет правдой. Но дело в том, что новое поколение не менее цинично, а пожалуй что и более.
— Абсолютно. Потому что, видимо, такой опыт. Не потому что не захотели этот опыт, а потому что ничего особенного в этом опыте нет. Иногда бывают ярко выраженные молодежные социальные движения. В нашей стране их не было никогда. На Западе это был конец 60-х годов, поколение 68-го года — это, строго говоря, мое поколение, поколение хунвейбинов в Китае — тоже. В каждой стране Запада темы этого молодежного протестного движения были разными, они зависели от конкретных исторических событий. В Штатах это было связано с войной во Вьетнаме, во Франции — с антибуржуазностью, в Германии это поколение тотально обвинило своих родителей не только в активном, но и пассивном нацизме, в том, что они допустили, молчали, что они делали вид, что не знают о существовании концлагерей. Это был поколенческий бунт. Такие вещи бывают редко, а у нас этого не было вообще. Я был бы рад, если бы у нас не радикальная, а какая-нибудь интеллектуальная молодежь выработала концепцию и ткнула поколение родителей носом куда-нибудь. Я бы к этому поколению примкнул, потому что у меня самого к своему поколению много претензий. Если нас обвинят в конформизме, в цинизме, все это будет правдой. Но дело в том, что новое поколение не менее цинично, а пожалуй что и более.
— Какое у вас ощущение от происходящего сейчас в целом? С одной стороны, кажется, что все очень быстро меняется…
— И не в лучшую сторону. Просто происходит много событий, в отличие от 70-х годов, когда их не было вообще. Это удивительная история. Знаете, в какую игру тогда играли? Кто-то из компании приносил газету, брал ее и зачитывал какую-нибудь заметку. Всем предлагалось угадать, какого года газета. Это редко кому удавалось, потому что в течение лет восьми вообще ничего не менялось.
— С другой стороны, говорят, что сейчас все похоже на застой.
— Нет, это не застой. Какой же это застой? Нет, это довольно бурное неприятное гниение. Просто они не видали застоя. Знаете, что бывает, когда жарким летом в дачный сортир бросить кусок дрожжей? Весь участок зальет. Это сейчас и происходит. Вот про нашу молодость я не могу сказать ничего плохого, нам было очень весело, потому что огромную роль играла всякая дружба. Мы сбивались вместе, потому что все время существовали во вражеском окружении. Но двойственность заключалась в том, что все это происходило на фоне невероятной бытовой скудости. С пустотой в магазинах, с какими-то очередями, скукой, темными улицами. А сейчас я говорю о гниении, при этом мы с вами сидим в симпатичном кафе, пьем капучино, а тогда такого слова никто не знал. Это странность нынешнего времени. Оно поганое, но почему сейчас молодежи трудно объяснить, что что-то не так?
— Потому что все есть.
— Пожалуйста, вот мы идем на концерт, вот мы сидим в кафе и пьем ламбруско, знаем разницу между шотландским и ирландским виски. Мы знаем, что такое просекко. Чего плохого-то? Значит, какая-то нравственная сторона дела их в принципе не касается. Человек, допустим, украл деньги и говорит: «А что плохого, я на них живу. А тот, у кого я украл, может быть, этого даже не заметил, потому что он богатый». О том, что в принципе красть нельзя, речи нет. Интересно, что на фоне этой бесконечной православной якобы риторики никто не говорит о десяти заповедях. Что, собственно, главное в любой религии? Заповеди, Нагорная проповедь.
— Как тогда молодому человеку разобраться, где добро, а где зло?
— Меня читайте. (Смеется.)
— Ну вот, все равно в итоге придешь к книгам.
— Да, в этом смысле русский человек — то же самое, что еврейский. Книга в основе всего. «Народ книги» — так мусульмане называли евреев еще в те годы, когда они не враждовали. Я однажды зашел за своей внучкой в детский сад и увидел, что у нее страшная ссадина на физиономии. Я говорю: «Лизочка, что это? Ты подралась?» «Это меня такой-то мальчик ударил». И тут же, добрая, добавляет: «Но он не нарочно, он случайно меня ударил». Я говорю: «Чем же?» «Книгой». Народ книги. Даже дерутся книгами. Не палкой с гвоздями. Ну вот.