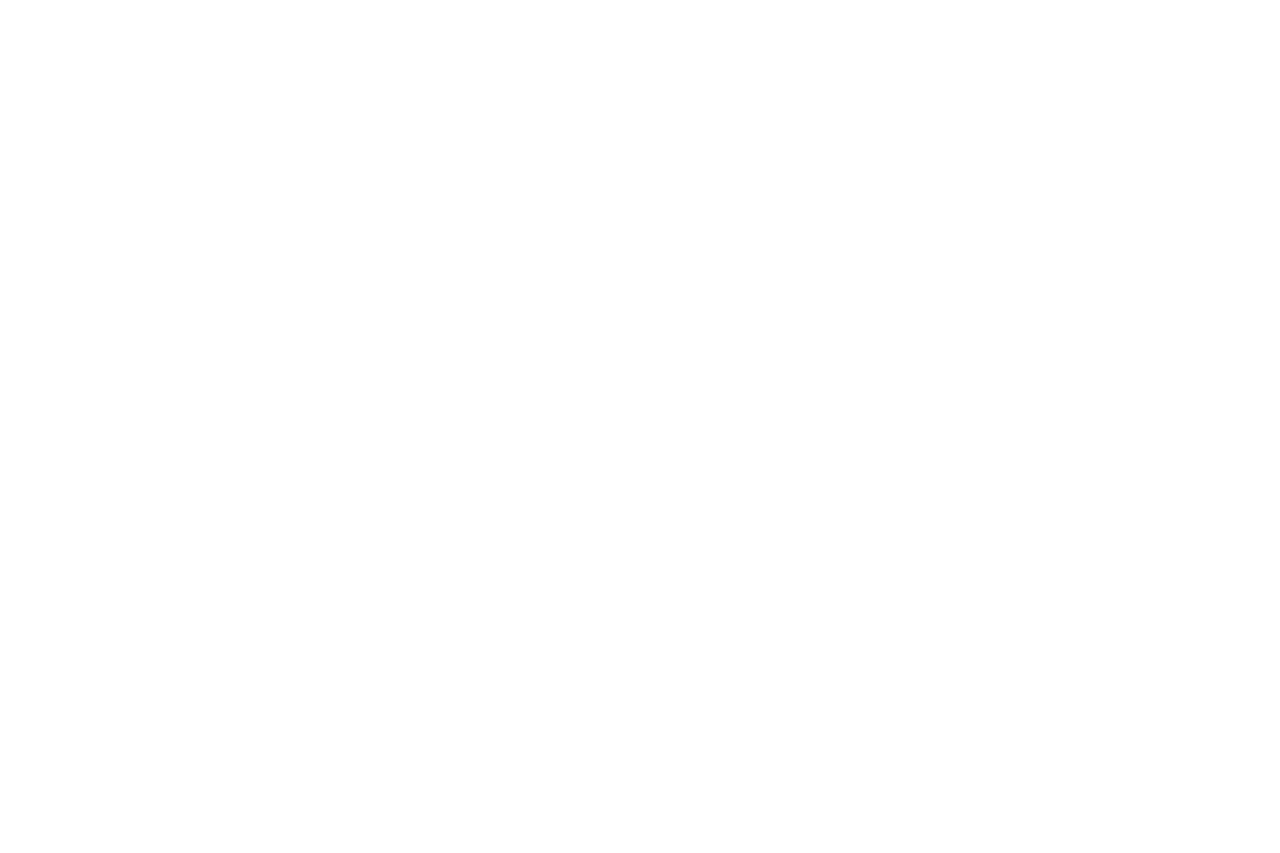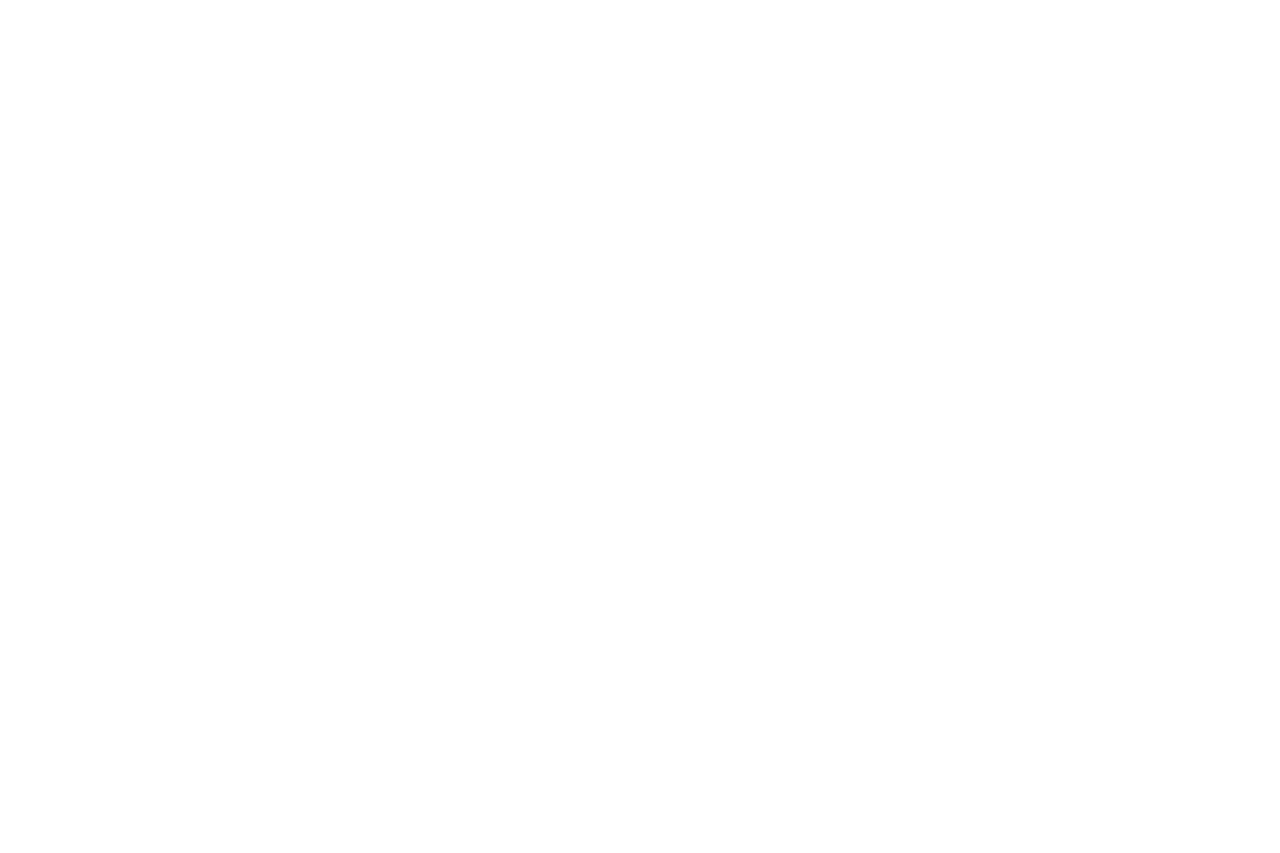третий возраст
Все там будем:
Елизавета Олескина о жизни в домах престарелых
Елизавета Олескина о жизни в домах престарелых
Фото: © Старость в радость
Благотворительный фонд «Старость в радость» образовался из одноименного волонтерского движения, которое существует с весны 2006 года. Это они ищут пожилым людям из домов престарелых внуков по переписке (а также курируют больше 50 учреждений в Центральной России, помогают с необходимым и ездят в гости). В рамках спецпроекта «Третий возраст» T&P публикуют монолог создателя и директора фонда Елизаветы Олескиной о том, как устроена работа в российских домах престарелых и жизнь их конкретных постояльцев.
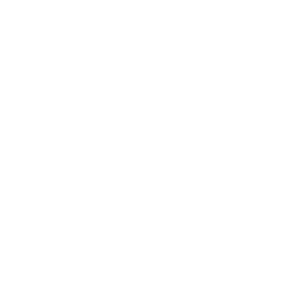
Елизавета Олескина
Однажды к нам пришли люди, которые сказали: «Мы хотим помогать старикам, дайте нам какое-нибудь важное задание». Мы сказали: «Лето, жарко, отвезите вентиляторы в такой-то дом престарелых». Люди серьезные, на больших машинах, говорят: «Окей». Мы отправили их в хороший дом, где радушное руководство, где, мы знали, их напоят чаем, не обидят. Но вернулись они страшно обиженные. Они сказали: «Ребят, вы над нами издеваетесь? Вы отправили занятых людей за 200 км, а там хороший дом, бабушки в платочках румяные, стены не разваливаются. Мы-то думали, что едем в холерный барак спасать людей, а вы. Мы лучше пойдем спасать собак, кошек, крокодилов». Миф, с которым мы все время работаем, — в том, что надо помогать, только если все очень плохо. Ситуации в домах престарелых очень разные. В некоторые, действительно, лучше не попадать. Но есть учреждения, где тепло, светло, не пахнет, а если пахнет, то пирожками. Если спросить, от чего это зависит, я скажу так: это маленькие государства в государстве, каждое со своим князем, который может быть добрым, очень недобрым, а может быть таким, которому все равно».
Второй миф касается тех, кто туда попадает. Обычно я слышу: «Сами виноваты. Они, наверное, алкоголики, всю жизнь пили, детей посдавали в детские дома». Это отталкивает многих от желания помогать в принципе. За те восемь лет, что мы наблюдаем дома престарелых в очень разных регионах, скажу, что я не встречала там только президентов — представители всех остальных профессий присутствуют. В одной палате может быть бабушка, которая всю жизнь проработала учителем, рядом с ней та, которая в этой школе убирала, потом пьющая тетушка 60 лет, а дальше почетный донор Советского Союза с удостоверением. К сожалению, система уравниловки действует по полной программе. И если спрашивать, кто туда попадает, я скажу, что туда попадаем мы. Совершенно разные люди, разного социального статуса, образовательного ценза. Миф о том, что там все одиноки, что детей у них нет, к сожалению (что болезненно), тоже разбивается. У большинства из ныне живущих в домах престарелых бабушек и дедушек (не все они по возрасту бабушки и дедушки) есть дети. Прямых родственников нет у 30%.
Второй миф касается тех, кто туда попадает. Обычно я слышу: «Сами виноваты. Они, наверное, алкоголики, всю жизнь пили, детей посдавали в детские дома». Это отталкивает многих от желания помогать в принципе. За те восемь лет, что мы наблюдаем дома престарелых в очень разных регионах, скажу, что я не встречала там только президентов — представители всех остальных профессий присутствуют. В одной палате может быть бабушка, которая всю жизнь проработала учителем, рядом с ней та, которая в этой школе убирала, потом пьющая тетушка 60 лет, а дальше почетный донор Советского Союза с удостоверением. К сожалению, система уравниловки действует по полной программе. И если спрашивать, кто туда попадает, я скажу, что туда попадаем мы. Совершенно разные люди, разного социального статуса, образовательного ценза. Миф о том, что там все одиноки, что детей у них нет, к сожалению (что болезненно), тоже разбивается. У большинства из ныне живущих в домах престарелых бабушек и дедушек (не все они по возрасту бабушки и дедушки) есть дети. Прямых родственников нет у 30%.
Мы всегда просим никого не осуждать, потому что сами не знаем, в какой ситуации окажемся. Часто людей ставит в тупик система. Один из вариантов попадания в дом престарелых — когда у женщины, например, трое-четверо детей. Один, возможно, с инвалидностью, муж, как водится, сидит или в принципе отсутствует, мать слегла — перелом шейки бедра. И вот она думает, что если бросить работу, то она не сможет поднять детей. Сдать детей в детский дом тоже вряд ли правильное решение. И, как меньшее зло, она решает съехать в дом престарелых. Хотя, если бы у нее была возможность нанять сиделку или если бы государство, как во многих европейских странах, предлагало вспомогательную помощь кризисным семьям, эта женщина осталась бы с матерью и детьми.
Самое странное — то, что почти все, кто живет в домах престарелых, мечтают только об одном: когда-нибудь вернуться домой
Есть другой тип бабушек, которых мы называем эмансипированными. Это те, которые сказали: «Я в доме сватьи пожила, мне там тесно, и сноха немного раздражает, лучше я сюда пойду жить». Они обычно заводилы, всех строят в палате, активно участвуют в культмассовых мероприятиях, помогают тем, кто слабее. Они сделали осознанный выбор в пользу отдельного проживания. Другой вопрос, что, бывает, дети действительно плохо относятся к этому человеку, и в доме престарелых у нее есть возможность хотя бы иметь свой угол. Есть и те, у кого действительно нет прямых родственников. Как говорится, жила-была бабушка, была у нее коза, топила она печку; коза заболела, дрова стало носить тяжело, приходят органы социальной опеки и предлагают бабушке путевку в теплый дом, где будет свет, баня раз в неделю, еда. Самое странное, что сидит у нас в голове (в Европе я с этим не сталкивалась): почти все, кто живет в домах престарелых, мечтают только об одном — когда-нибудь вернуться домой. Притом что часто дома неотапливаемые или совершенно разрушенные. Но почему-то русским людям страшно умереть не дома. Когда на Новый год компании, которые хотят помочь, спрашивают: «Какие мечты у ваших бабушек и дедушек? Наша фирма все осуществит». Я им говорю: «Стать здоровыми, молодыми, попасть домой. Какой из этих трех пунктов осуществит ваша фирма?»
От кого зависит, как живут в интернатах? От директора и санитарок, потому что они с утра до вечера занимаются постояльцами. Как вы думаете, какое образование, опыт у специалистов этих двух категорий? Ответ один: никакого в этой области. Директора — это в основном люди, которые сменили основную работу. Среди них есть замечательные учителя, работники большого спорта, люди из сферы торговли, налоговики, бывшие военные. Санитарки чаще всего работали продавщицами, бухгалтерами, нянечками. Это абсолютно разные люди, которые не имеют даже минимальных знаний о том, что необходимо делать или не делать, чтобы работать им было проще, а жизнь бабушек становилась более сносной. В целом, наши бабушки в таких учреждениях обычно заняты тем, что они сидят. Бывает, к ним приезжают с концертами, мы много лет тем, кто этого хочет, находим друзей, которые пишут им бумажные письма. Для многих это очень важно, потому что это радость. Дом престарелых — место, где нет выбора, за тебя там все решают. Если сегодня решили, что будет чай, он будет у всех, хочешь или нет. Если обед в 13, то он никогда не будет в 12 или в 14. Никакой независимости. Из материального у пожилых остается одна вещь. Не очки. Ложка.
От кого зависит, как живут в интернатах? От директора и санитарок, потому что они с утра до вечера занимаются постояльцами. Как вы думаете, какое образование, опыт у специалистов этих двух категорий? Ответ один: никакого в этой области. Директора — это в основном люди, которые сменили основную работу. Среди них есть замечательные учителя, работники большого спорта, люди из сферы торговли, налоговики, бывшие военные. Санитарки чаще всего работали продавщицами, бухгалтерами, нянечками. Это абсолютно разные люди, которые не имеют даже минимальных знаний о том, что необходимо делать или не делать, чтобы работать им было проще, а жизнь бабушек становилась более сносной. В целом, наши бабушки в таких учреждениях обычно заняты тем, что они сидят. Бывает, к ним приезжают с концертами, мы много лет тем, кто этого хочет, находим друзей, которые пишут им бумажные письма. Для многих это очень важно, потому что это радость. Дом престарелых — место, где нет выбора, за тебя там все решают. Если сегодня решили, что будет чай, он будет у всех, хочешь или нет. Если обед в 13, то он никогда не будет в 12 или в 14. Никакой независимости. Из материального у пожилых остается одна вещь. Не очки. Ложка.
О дедушке Вите
Мы дружили с маленьким домом престарелых в одной деревне, а потом узнали, что его закрывают, потому что через 10 лет функционирования его сочли неправильным: пролет у лестниц слишком широкий, пожарники начали прикапываться. Это значит одно — что сверху дом решено закрыть. Бабушка Глаша, например, очень этого испугалась и вместо того, чтобы переехать в другой дом престарелых, пошла жить к себе, к сыну-пьянице. Многим так лучше.
Мы решили, что если мы никак не можем изменить решение о закрытии, то можем помочь снизить стресс от переезда. Приехали с вечера, попели песни, поболтали. Утром их должна была забирать «газель» большого дома престарелых, куда их переселяли. Задачей было людей подготовить, успокоить, перевезти, показать, что мы и там будем их навещать. Дедушка Витя, слепой много лет, жил в палате с бабушками. Такого не бывает. Всегда все живут отдельно. К тому же в больших домах престарелых активные живут в отдельном корпусе (где пьют со страшной силой, потому что это основное развлечение). Слабые живут в корпусе милосердия. Не знаю, почему так называется. У нас все называют неожиданно. В милосердии живут лежачие, к которым никто не ходит. Дедушка Витя со всеми трепетно ладил. Дедушки на него все время огрызались, поэтому местный персонал его и поселил в палату к бабушкам, которые за ним ухаживали. Он говорил: «У меня тут три невесты — Катя, Маша и Анька». Они сами ходить не могли, но дедушке помогали, он с табуреткой по палате чуть перемещался. Все его любили безумно, потому что он пел, знал все старые песни.
Мы решили, что если мы никак не можем изменить решение о закрытии, то можем помочь снизить стресс от переезда. Приехали с вечера, попели песни, поболтали. Утром их должна была забирать «газель» большого дома престарелых, куда их переселяли. Задачей было людей подготовить, успокоить, перевезти, показать, что мы и там будем их навещать. Дедушка Витя, слепой много лет, жил в палате с бабушками. Такого не бывает. Всегда все живут отдельно. К тому же в больших домах престарелых активные живут в отдельном корпусе (где пьют со страшной силой, потому что это основное развлечение). Слабые живут в корпусе милосердия. Не знаю, почему так называется. У нас все называют неожиданно. В милосердии живут лежачие, к которым никто не ходит. Дедушка Витя со всеми трепетно ладил. Дедушки на него все время огрызались, поэтому местный персонал его и поселил в палату к бабушкам, которые за ним ухаживали. Он говорил: «У меня тут три невесты — Катя, Маша и Анька». Они сами ходить не могли, но дедушке помогали, он с табуреткой по палате чуть перемещался. Все его любили безумно, потому что он пел, знал все старые песни.
Мы понимали, что в большом интернате система этих отношений не работает в принципе. Утром в день переезда все честно друг друга подбадривали, что все будет хорошо. Приехала «газель», из нее вышли тети и сказали, что у всех есть 15 минут на погрузку, потому что бензин горит. Собственно, бабулькам и дедулькам больше времени не надо, тюки у них небольшие. Мы на своей машине поехали за ними. У меня, честно, было ощущение, что я присутствую разве что не при падении всей цивилизации, но при падении очень большой ее части. Рыдать начали все. Если сначала одна санитарка всхлипывала, то в какой-то момент пронесло всех. Дико рыдали бабушки, дедушки, медсестры, санитарки, потому что в силу обстоятельств из этих людей сложилась семья — не первая, но вторая. Семья существовала вместе, у людей была работа, получали они свои 9 тысяч, подъедали остатки каши, которую дедушки не доедали, но они жили. Дедушки и бабушки жили недалеко от своих мест, они видели своих родственников, ходили по грибы в лес. Они знали, что их похоронят тут же, что все с ними будет хорошо. Когда сломалась эта система, персонал остался без работы. Странно все это ломать, но, к сожалению, так происходит.
В общем, дедушка Витя попал в большой дом престарелых. Когда мы их навещали и пошли его искать, то обнаружили, что его поселили на четвертый этаж в отделение милосердия. Четвертый этаж — это, я вам скажу, еще повезло, потому что обычно милосердие — оно как чистилище с кругами: четвертый этаж — значит, ты еще чуть ходишь, третий этаж — значит, чуть передвигаешься на коляске, второй этаж — плоховато. Если человек «заплохевает», он знает, что автоматически он спускается вниз. После второго этажа следует уровень грунта, дальше уже вроде некуда.
В общем, дедушка Витя попал в большой дом престарелых. Когда мы их навещали и пошли его искать, то обнаружили, что его поселили на четвертый этаж в отделение милосердия. Четвертый этаж — это, я вам скажу, еще повезло, потому что обычно милосердие — оно как чистилище с кругами: четвертый этаж — значит, ты еще чуть ходишь, третий этаж — значит, чуть передвигаешься на коляске, второй этаж — плоховато. Если человек «заплохевает», он знает, что автоматически он спускается вниз. После второго этажа следует уровень грунта, дальше уже вроде некуда.
Когда мы нашли нашего дедушку, мы начали ему говорить: «Дядь Вить, вы не волнуйтесь, тут все тоже хорошо, тоже можно петь, улыбаться». Не могу сказать, что я сама в это верила, но я старалась вселить в него ощущение позитива. Рядом с ним был глухонемой дедушка, а третий — молодой мужчина, лет тридцати, с каким-то жутким грибком — возможно, заразным, возможно, незаразным (наконец-то сейчас его отправили на лечение). Через месяц мы приехали к дедушке Вите. В прежнем доме престарелых он вполне себе немного передвигался. Здесь мы его не смогли найти сразу, потому что буквально через неделю с четвертого этажа он был перемещен на третий — в общем, плохой знак. Когда я к нему зашла, долго не могла его найти, потому что он лежал. Это основное занятие стариков в больших интернатах в отделениях для слабых, потому что никому до них нет дела. Он сказал: «Тут меня сильно обидели», — и замолчал. Естественно, ни в какое отделение к женщинам его не поселили, это вне понимания руководства. Дальше он говорит: «Кому я тут нужен? Вот обед — слышу, что тарелку брякнули, слышу, что тарелку унесли. Спросили: «Хочешь?» «Не надо мне ничего». Никто даже не настаивает на том, что человека нужно покормить. «Яйцо принесут — я слышу, что яйцо, соседу отдаю. Ему есть надо, он молодой, а мне ничего не надо».
Почему в больших домах нет разделения по половому признаку в плане одежды — для меня тоже большой вопрос. В маленьких домах каждый одевается сам, что-то из дома приносят. В больших домах система уравниловки настолько сильна, что ты чаще всего можешь попрощаться со своей ночной рубашкой, зная, что она придет к кому-то, а тебе достанется следующая. Первые годы меня удивляло, почему солидные мужчины пожилого возраста, за 80, сидят в розовых с рюшечками ночных рубашках. Потом я с этим смирилась — все равно ничего не понимаю. Наш дед сидел в рваной рубашке сильно большего размера, окно рядом было открыто, его продуло, он начал кашлять. В общем, я все поняла.
Почему в больших домах нет разделения по половому признаку в плане одежды — для меня тоже большой вопрос. В маленьких домах каждый одевается сам, что-то из дома приносят. В больших домах система уравниловки настолько сильна, что ты чаще всего можешь попрощаться со своей ночной рубашкой, зная, что она придет к кому-то, а тебе достанется следующая. Первые годы меня удивляло, почему солидные мужчины пожилого возраста, за 80, сидят в розовых с рюшечками ночных рубашках. Потом я с этим смирилась — все равно ничего не понимаю. Наш дед сидел в рваной рубашке сильно большего размера, окно рядом было открыто, его продуло, он начал кашлять. В общем, я все поняла.
Дом престарелых — место, где нет выбора, за тебя там решают все
У меня был контакт с платным домом престарелых в Подмосковье. Они сказали, что в качестве благотворительности готовы на аварийный случай взять одного человека когда-нибудь. Говорили они это очень давно, лет пять назад, но я подумала, что, наверное, это тот случай, и подняла контакты. Самое удивительное, что дом-интернат не хотел его отпускать. Они говорили: «У нас и так коечная мощность нарушена». «Коечная мощность» звучит зубодробительно, но, грубо говоря, это значит, что на каждой кровати лежит бабушка. Поэтому им было важно не отдавать этого человека, потому что свободных мест и так много. Дедушка «заплохел», в их терминологии, они согласились его отдать. Но в успех предприятия я начала верить все меньше и меньше, потому что ощущение было, что дедушке действительно все равно. Но активные люди перевезли его в дом престарелых в Дубки.
Дальше начинается волшебная сказка о том, как многое зависит от ухода. Дедушка уже в дороге начал немного улыбаться. Когда он приехал туда, первое, что про него сказали санитарки, медсестры: «Ой, какой милый». Дедушка начал им частушки петь, буквально на следующий день он стал любимцем всех. Когда у них было время, все заходили к нему поговорить о жизни. Оказалось, что, кроме такой шутовской веселости, он еще и кандидат наук, много всего знал, с ним было интересно. Сейчас он уже умер. Но год он прожил, ходил на улицу, две санитарки брали его под руки и выводили, отучили от памперсов, потому что чем меньше за человеком ухаживаешь, тем больше шансов, что он потеряет какие-то активности, станет зависимым. Мы плакали от того, как система коробит людей, потому что у дедушки развился комплекс вины. Увидев один раз тяжелую ситуацию, люди потом думают: «Почему мне так свезло, а там люди по-другому живут?» Он не съедал свою порцию, говорил: «Я не заслужил. Почему они там сидят почти голодные, а я так вкусно ем? Вы лучше им отдайте». Когда четыре санитарки хотели его вынести на улицу, он говорил: «Нет, я не сделал ничего такого, чтобы женщины меня на улицу носили». Дедушка умер, но то, что год он прожил хорошо и снова пел, мне кажется удивительной победой над системой, которую не победишь.
Дальше начинается волшебная сказка о том, как многое зависит от ухода. Дедушка уже в дороге начал немного улыбаться. Когда он приехал туда, первое, что про него сказали санитарки, медсестры: «Ой, какой милый». Дедушка начал им частушки петь, буквально на следующий день он стал любимцем всех. Когда у них было время, все заходили к нему поговорить о жизни. Оказалось, что, кроме такой шутовской веселости, он еще и кандидат наук, много всего знал, с ним было интересно. Сейчас он уже умер. Но год он прожил, ходил на улицу, две санитарки брали его под руки и выводили, отучили от памперсов, потому что чем меньше за человеком ухаживаешь, тем больше шансов, что он потеряет какие-то активности, станет зависимым. Мы плакали от того, как система коробит людей, потому что у дедушки развился комплекс вины. Увидев один раз тяжелую ситуацию, люди потом думают: «Почему мне так свезло, а там люди по-другому живут?» Он не съедал свою порцию, говорил: «Я не заслужил. Почему они там сидят почти голодные, а я так вкусно ем? Вы лучше им отдайте». Когда четыре санитарки хотели его вынести на улицу, он говорил: «Нет, я не сделал ничего такого, чтобы женщины меня на улицу носили». Дедушка умер, но то, что год он прожил хорошо и снова пел, мне кажется удивительной победой над системой, которую не победишь.
О койках сестринского ухода
Дома престарелых часто путают с психоневрологическими интернатами. Наше правительство не делает разницы между ними, но это разные здания, разный персонал, абсолютно разные условия содержания и проживания — в том числе то, что в интернатах из-за нехватки персонала люди часто закрыты в комнатах снаружи, бывает, что привязаны к кровати, бывает, что сильно обколоты. Это недостаток системы, которая оптимизировала все что можно, например лишний медперсонал, который лишним быть не может (когда у одной санитарки 30 подопечных, вряд ли она одна может всех вынести на своих плечах). В таких интернатах живут пожилые и молодые люди, страдающие психическими заболеваниями, в том числе деменцией. Получается, наша бабушка, Марь Иванна, которая всю жизнь протрудилась и чуть-чуть впала в маразм (допустим, путает вход и выход), ничем не отличается от той публики, которая живет в психоневрологических интернатах, в геронтологических отделениях, где лежат бабушки с деменцией.
Здесь опять же можно упомянуть европейскую систему, где деменция, старческое слабоумие, не входит в число заболеваний, из-за которого человека надо помещать в закрытое режимное учреждение и закалывать лекарствами. Наоборот, нужна поддерживающая терапия, которая будет максимально долго сохранять человека активным. К сожалению, у нас это не совсем так. У нас бабушки могут попасть в дом престарелых, в интернат, а если совсем «повезет» и нигде нет мест, она может застрять в больнице. Это еще один тип заведений, где живут наши пожилые люди, — так называемые палаты, или койки сестринского ухода. В таких палатах проживает значительное количество пожилых людей, которые нигде не числятся. Если позвонить в Минздрав или соцзащиту, никто не рад говорить, что это в их ответственности.
На заре нашей юности мы возвращались из дома престарелых в Нижегородской области. У нас осталось несколько часов до поезда. По дороге до станции (мы ехали на какой-то «газели») встретили бабушку, которая стояла голосовала. Остановились. Бабушка оказалась женщиной средних лет, весьма нетрезвой, но, раз уж решили, надо помогать до конца. Она спросила, кто мы. Мы рассказали. Она: «О, а что же вы к нам в деревню не заезжаете? Там тоже дом престарелых». Мы думаем: «У нас есть два часа до поезда, как не заехать». Она объяснила путь.
Здесь опять же можно упомянуть европейскую систему, где деменция, старческое слабоумие, не входит в число заболеваний, из-за которого человека надо помещать в закрытое режимное учреждение и закалывать лекарствами. Наоборот, нужна поддерживающая терапия, которая будет максимально долго сохранять человека активным. К сожалению, у нас это не совсем так. У нас бабушки могут попасть в дом престарелых, в интернат, а если совсем «повезет» и нигде нет мест, она может застрять в больнице. Это еще один тип заведений, где живут наши пожилые люди, — так называемые палаты, или койки сестринского ухода. В таких палатах проживает значительное количество пожилых людей, которые нигде не числятся. Если позвонить в Минздрав или соцзащиту, никто не рад говорить, что это в их ответственности.
На заре нашей юности мы возвращались из дома престарелых в Нижегородской области. У нас осталось несколько часов до поезда. По дороге до станции (мы ехали на какой-то «газели») встретили бабушку, которая стояла голосовала. Остановились. Бабушка оказалась женщиной средних лет, весьма нетрезвой, но, раз уж решили, надо помогать до конца. Она спросила, кто мы. Мы рассказали. Она: «О, а что же вы к нам в деревню не заезжаете? Там тоже дом престарелых». Мы думаем: «У нас есть два часа до поезда, как не заехать». Она объяснила путь.
Мы вышли; никого, волшебники, не предупредили. Поднимаемся по лестнице, удивительным образом никого нет, нас никто не останавливает, мы спокойно проходим на этаж. И тут нас обуял первозданный ужас, потому что только что мы были в хорошем доме с пирогами и майонезом, а тут, пардон, вонь, грязь, совершенно пустые коридоры, синие палаты с километровыми окнами без штор. И когда мы, улыбаясь, зовем бабушек на концерт, никто не идет, выползают две, остальные лежат. Мы стали бегать по палатам, пытаясь понять, что происходит, почему все так плохо, когда только что в 50 км было все хорошо. Обнаружили, что не хватает постельного белья, вместо него какие-то клеенки, часть кроватей — доски, часть постельного белья отсутствует. Мы приехали домой, начали писать ужасы в социальных сетях, пытаться собрать деньги, звонить в ведомства, потому что соцзащита Нижегородской области радовала нас своей адекватностью. Но они сказали, что ничего про это не знают: «Это не дом престарелых, вам показалось. Позвоните лучше в Минздрав». Мы много дней и часов дозванивались до Минздрава. Минздрав сказал: «А вам какое дело до этих бабушек? Вы им кто? Если вы ругаться, то идите лучше в соцзащиту, они там что-то не так делают. Если помогать, то мы вам все расскажем». Тогда мы раз и навсегда решили, что мы про помогать.
Мы уже собрали какую-то сумму денег, решили поменять кровати. «Это, — говорят, — называется палаты сестринского ухода при больнице. Вот бабушка поступила в больницу, а выписывать ее некуда, мест в доме престарелых нет. Или даже место появилось, а оформлять ее некому, родственникам все равно, сын спился, вот она там много дней и лежит». Я говорю: «А сколько они там находятся? Две недели? Два месяца? Какой срок?» «Ну, вы лучше на месте там спросите, я вам телефон главного врача дам, предупрежу, что с вами можно работать». Но, собственно, главный врач к тому моменту был уже достаточно теплый. После наших постов в «Живом Журнале», в фейсбуке, во «ВКонтакте» ему уже звонил Первый канал, Комитет по предотвращению пыток, НТВ, какие-то еще люди. Когда ему рассказали, что туда приедут новые кровати и матрасы, он ответил: «Из-за вас я лишусь работы. Но я патриот и хочу, чтобы были новые кровати, давайте работать». Мы с ним очень подружились, он доработал там до 88 лет, ушел на пенсию. Он сказал, что в таком отделений наши бабушки живут по пять, десять лет, в основном просто до кладбища. Когда перед Новым годом спонсоры звонят в дома престарелых, готовые помогать, до этих отделений ничего не доходит, потому что никому не приходит в голову, что старики могут встречать Новый год, Рождество, Пасху там. Никакой Yandex или Google их не выдаст. Можно только прозванивать самим или звонить нам.
Собственно, это третий тип размещения пожилых людей. Сейчас его постепенно прикрывают, потому что при Минздраве должно быть лечение, а при соцзащите — долговременное проживание. Но, как водится, у нас рубят с плеча, закрывают эти койки очень резко, переводят бабушек в большие дома престарелых, интернаты. Бабушки от этого плачут, переживают, умирают, потому что быстрый переезд для пожилого человека — это очень тяжело. Они боятся, и им лучше вернуться в свой дом, чем куда-то переезжать. Соцзащита в это не верит.
Мы уже собрали какую-то сумму денег, решили поменять кровати. «Это, — говорят, — называется палаты сестринского ухода при больнице. Вот бабушка поступила в больницу, а выписывать ее некуда, мест в доме престарелых нет. Или даже место появилось, а оформлять ее некому, родственникам все равно, сын спился, вот она там много дней и лежит». Я говорю: «А сколько они там находятся? Две недели? Два месяца? Какой срок?» «Ну, вы лучше на месте там спросите, я вам телефон главного врача дам, предупрежу, что с вами можно работать». Но, собственно, главный врач к тому моменту был уже достаточно теплый. После наших постов в «Живом Журнале», в фейсбуке, во «ВКонтакте» ему уже звонил Первый канал, Комитет по предотвращению пыток, НТВ, какие-то еще люди. Когда ему рассказали, что туда приедут новые кровати и матрасы, он ответил: «Из-за вас я лишусь работы. Но я патриот и хочу, чтобы были новые кровати, давайте работать». Мы с ним очень подружились, он доработал там до 88 лет, ушел на пенсию. Он сказал, что в таком отделений наши бабушки живут по пять, десять лет, в основном просто до кладбища. Когда перед Новым годом спонсоры звонят в дома престарелых, готовые помогать, до этих отделений ничего не доходит, потому что никому не приходит в голову, что старики могут встречать Новый год, Рождество, Пасху там. Никакой Yandex или Google их не выдаст. Можно только прозванивать самим или звонить нам.
Собственно, это третий тип размещения пожилых людей. Сейчас его постепенно прикрывают, потому что при Минздраве должно быть лечение, а при соцзащите — долговременное проживание. Но, как водится, у нас рубят с плеча, закрывают эти койки очень резко, переводят бабушек в большие дома престарелых, интернаты. Бабушки от этого плачут, переживают, умирают, потому что быстрый переезд для пожилого человека — это очень тяжело. Они боятся, и им лучше вернуться в свой дом, чем куда-то переезжать. Соцзащита в это не верит.
Дом престарелых
У нас есть программа «Летние волонтерские лагеря», когда мы две недели при доме престарелых делаем своими силами ремонт, разрисовываем палаты. И, главное, даем понять персоналу, что они кому-то нужны, что мы приехали не ругать их, а сделать их работу более эффективной. Для бабушек и дедушек мы организуем выездные экскурсии, совместные посиделки — что-то такое, чего не бывает в обычной жизни домов престарелых. В этом с нами в том числе участвуют иностранцы. В этот лагерь приехал мальчик из Бразилии Нараян, бабушки не могли произнести, переделывали то в Коляна, то еще в кого-то. Бразильский мальчик не говорил по-русски вообще, но тяга к приключениям привела его в дом престарелых. Он удивлялся, почему все эти пожилые женщины здесь лежат, почему не ходят, почему дети, когда прием, пришли забирать пенсию. Там я заговорила с дедушкой — он слепой, но активный, бодрый, интеллигентный. Я спрашиваю: «Владимир Маркович, вы на улицу ходите?» «Я бы рад ходить, но я даже не понимаю, на каком этаже живу, боюсь заблудиться. Я не хожу, потому что некому меня вывести». Я поняла, что была единственным человеком, кто может взять его, довести до лифта, вывести на улицу, пройтись по двору и вернуться обратно. Несложное мероприятие. Собственно, когда мы с ним пошли, там был июнь, летел тополиный пух. Дедушка спрашивает, что это, он сразу не понял. Я решила пошутить, чтобы всем стало повеселее, и сказала, что это снег. Думала, что будет хохот. Дедушка говорит: «Как давно я не был на улице. Я забыл, как выглядит снег. Я думал, он холодный и жжется, а он теплый, ласковый». Думаю сразу, какая же я, не вовремя пошутила. Начинаю сразу извиняться: «Нет, вы правы, это не снег, это тополиный пух, снег холодный». Это к тому, что деменция, одиночество, депрессивные состояния развиваются там не потому, что бабушки плохи, а потому, что они не получают того, что важно — индивидуального подхода, любви, внимания.
Мы сажаем их в коляски, вывозим погулять во дворе, они удивляются, что тут водокачка, что-то еще. Через пару дней мы прошли по всем палатам с общим концертом, пели песни в каждой комнате. Это тоже то, что поражает администрацию обычно, потому что концерты нормальные — это когда коллективы попели на сцене, сплясали и ушли. А потом мы говорим: «Теперь мы пойдем к лежачим». Они говорят: «А зачем к ним идти?» Если они лежачие, то вроде как не надо. Нам кажется, что, даже если человек слег, ему хочется получать новые ощущения, внимание, эмоции. До сих пор помню, как мы зашли в палату к бабушкам, про которых персонал говорил, что они все ничего не понимают, глумят. Что это за слово? Я его не знала. «Глумят» — значит, путают показания, факты, «заглумили» уже. Мы честно зашли ко всем, пели песни даже там, где не получали обратной связи. После мы вышли в коридор и слышим из палаты тихий-тихий голос: «Спасибо большое, девочки, я уже много лет не слышала музыки». И я понимаю, что те люди, при которых обсуждают их умственную неполноценность, неадекватность, абсолютно все понимают, просто к ним относятся так: «Переложил, сядь, ложись», и они сами забыли, что могут говорить. Поэтому часто для персонала становится бОльшим откровением, чем для нас, когда мы поем «Катюшу» в какой-нибудь непробиваемой палате и бабушка, которая не поет и не говорит, встает из своих одеял и, прищуриваясь, начинает повторять слова песни, которая чем-то откликается внутри. Персонал говорит: «Смотри, она же не говорит уже давно». То есть медсестры не злые, им просто никто не сказал, как так можно и нужно.
Наш бразильский друг Нараян, обходя палаты с песнями, обнаружил, что слепая бабушка тяжело дышит и скрипит, то есть явно плохо. Я струсила и побежала искать врачей, которых оптимизировали, а я думала, что они еще есть. Нашла санитарку, говорю: «Там плохо человеку, сделайте что-нибудь». Они говорят: «Ну, что сделать». Обед в эту палату не надо нести, ее просто снимают с довольствия. Не потому что они злые и плохие, а потому что они могут не ставить ей порцию, а отдать кому-то другому. В общем, мы все разбежались искать какой-то абстрактной помощи. Нараян единственный не понял, почему, когда человеку плохо, все куда-то разбежались. Он сделал то, что делает каждый человек на уровне инстинкта: он взял ее за руку, начал гладить по голове, что-то говорить на своем языке. Через какое-то время пришел батюшка из местной церкви, наш хороший друг, медсестры какие-то подошли. В это время погода резко поменялась, солнышко вышло, и бабушка уже была не с нами, как выяснилось. Мы обнаружили Нараяна в состоянии шока. Он попал в страну, где говорят на непонятном ему языке и делают странные вещи с людьми: когда человеку плохо, не бросаются ему на помощь, а разбегаются. Нас всех поразила одна простая мысль: эта бабушка была первой и единственной, которая ушла так, которую держали за руку, гладили по голове, с которой говорили. Потому что соседки привыкают, и эта череда смертей, в которую они сами встанут, стирает значимость этого явления. Чуть больше внимания, чуть больше любви нужно человеку, которому плохо. У нас все построено наоборот. Если человеку совсем плохо, ему уже и помогать не надо. Это то, что, мы надеемся, будет постепенно меняться. Спасибо фонду «Вера», который продвигает идею, что, если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь.
Наш бразильский друг Нараян, обходя палаты с песнями, обнаружил, что слепая бабушка тяжело дышит и скрипит, то есть явно плохо. Я струсила и побежала искать врачей, которых оптимизировали, а я думала, что они еще есть. Нашла санитарку, говорю: «Там плохо человеку, сделайте что-нибудь». Они говорят: «Ну, что сделать». Обед в эту палату не надо нести, ее просто снимают с довольствия. Не потому что они злые и плохие, а потому что они могут не ставить ей порцию, а отдать кому-то другому. В общем, мы все разбежались искать какой-то абстрактной помощи. Нараян единственный не понял, почему, когда человеку плохо, все куда-то разбежались. Он сделал то, что делает каждый человек на уровне инстинкта: он взял ее за руку, начал гладить по голове, что-то говорить на своем языке. Через какое-то время пришел батюшка из местной церкви, наш хороший друг, медсестры какие-то подошли. В это время погода резко поменялась, солнышко вышло, и бабушка уже была не с нами, как выяснилось. Мы обнаружили Нараяна в состоянии шока. Он попал в страну, где говорят на непонятном ему языке и делают странные вещи с людьми: когда человеку плохо, не бросаются ему на помощь, а разбегаются. Нас всех поразила одна простая мысль: эта бабушка была первой и единственной, которая ушла так, которую держали за руку, гладили по голове, с которой говорили. Потому что соседки привыкают, и эта череда смертей, в которую они сами встанут, стирает значимость этого явления. Чуть больше внимания, чуть больше любви нужно человеку, которому плохо. У нас все построено наоборот. Если человеку совсем плохо, ему уже и помогать не надо. Это то, что, мы надеемся, будет постепенно меняться. Спасибо фонду «Вера», который продвигает идею, что, если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь.
О помощи
Как-то с нами поехала моя подруга. Она из другой сферы, очень боялась, но тем не менее согласилась. Когда мы приехали в дом престарелых, она сказала: «Я очень боюсь, я тут постою в уголочке. Я петь не умею, плясать не умею, я постою. Если совсем тошно станет, пойду в машину пореву». Говорю: «Кать, как хочешь». Мы пели «Катюшу», водили хороводы, всячески радовались. Я потеряла Катю из поля зрения — думала, ушла к машине, ну ладно. Приходит время собираться, проходим по палатам, все собрались, пошли в машину. Нет Кати. Думаю, все, где-то еще переживает. Мы еще раз прошли по палатам. Обнаружили, что эта Катя наша рыдает в подол бабушке, активной бабушке-матерщиннице, которая гладит ее по голове и приговаривает: «Да не плачь ты, козел он, говорю ж тебе, козел. Ты ж такая хорошая, мы тебе такого найдем. У меня есть племяшка неженатый, в следующий раз приедешь, а я его невзначай так позову. Не плачь ты, ничего ты еще не испортила, все мы с тобой поправим». Я понимаю, что Катя плачет, но совсем не по той причине, по которой планировала. Потом она как-то быстро обсохла, вытерла слезы, сказала: «У меня все хорошо, я готова. Свое мнение я не меняю, здесь грустно, ездить я сюда не хочу, но, когда в этот дом будет поездка, ты меня обязательно не забудь позвать. Я буду не одна, я друзей возьму. А еще мы с этой бабушкой договорились — я ей хочу палату сделать другой. Она, конечно, говорит, что ей ничего не надо, но я хочу, чтобы у нее комод свой был, шкаф, зеркало».
Не надо думать, что помощь — это очень сложно и требует какого-то героизма
У страха глаза велики. Наши ожидания настолько превосходят ужасность и невозможность, что мы приезжаем и думаем, что мы добрые, сейчас спасем кого-то. При этом мы приезжаем сами услышать что-то, переосмыслить и уезжаем в гораздо большей степени богатые, чем бабушки, которым мы привезли памперсы, пеленки или что-то еще. И когда бабушки честно суют нам все, что накопили за неделю или за две, «печенье со вкусом бабушки», как я говорю, я объясняю: «Вы не отказывайтесь, это очень важно». Нам приятно дарить, давать. Представьте себе, как бабушке, которая давно себя чувствовала объектом благотворительности, приятно что-то кому-то дать. Даже если ты не будешь есть этот мандарин, возьми его просто с собой, и она будет знать, что она сегодня кому-то помогла, что мы будем ее помнить за хорошее.
Напоследок расскажу. Не все бабушки и дедушки сразу идут на контакт. Многим дедушкам, кажется, вообще ничего не надо. Они не стараются с нами особо взаимодействовать. Мы заехали как-то в какой-то благополучный дом престарелых. Выходит дедушка, который казался нам минимально коммуникабельным. Говорит: «Вы ко мне зайдите на минуточку». Мы говорим: «Ладно, серьезный человек, зайдем». «Я хотел передать», — и передает пакет. В пакете — апельсины. Мы знаем, что этот дом находится далеко от всякой цивилизации. Туда приходит автолавка, в которую апельсины не входят. Но их дают на обед по вторникам и четвергам. Этот дедушка почти ни с кем не общается. Когда я пытаюсь посчитать, сколько недель он копил эти апельсины, то понимаю, что бы мы сделали, если бы не заехали в этот раз в этот дом престарелых. Поэтому даже мелочи, которых мы порой не замечаем, могут быть очень важными, очень ценными. Из мелочей состоит жизнь, поэтому не надо думать, что помощь — это очень долго, очень сложно и требует какого-то героизма. Это требует чуть-чуть нашего сострадания, даже сострадания к самим себе: мы становился богаче и счастливее, когда понимаем, что «там у бабушки благодаря мне есть новый матрас», «я знаю, что бабушки теперь выезжают в коридор, потому что мы им купили хорошие коляски», «а в этом заведении работают наши нянечки, которым мы платим денежку, они бабушек сажают, выводят на улицу, кормят, с ними занимаются». Когда я это знаю, мне становится хорошо, тепло; что бы ни было, есть места, где мне всегда рады. Если я туда приду просто без ничего, голодная, меня накормят и скажут: «Оставайтесь, на моей кровати ложитесь, мы тут потеснимся». Поэтому, мне кажется, большая печаль, что мы немножко игнорируем наши дома престарелых и замечательных людей, которые там живут. Надеюсь, что это все будет меняться.
Напоследок расскажу. Не все бабушки и дедушки сразу идут на контакт. Многим дедушкам, кажется, вообще ничего не надо. Они не стараются с нами особо взаимодействовать. Мы заехали как-то в какой-то благополучный дом престарелых. Выходит дедушка, который казался нам минимально коммуникабельным. Говорит: «Вы ко мне зайдите на минуточку». Мы говорим: «Ладно, серьезный человек, зайдем». «Я хотел передать», — и передает пакет. В пакете — апельсины. Мы знаем, что этот дом находится далеко от всякой цивилизации. Туда приходит автолавка, в которую апельсины не входят. Но их дают на обед по вторникам и четвергам. Этот дедушка почти ни с кем не общается. Когда я пытаюсь посчитать, сколько недель он копил эти апельсины, то понимаю, что бы мы сделали, если бы не заехали в этот раз в этот дом престарелых. Поэтому даже мелочи, которых мы порой не замечаем, могут быть очень важными, очень ценными. Из мелочей состоит жизнь, поэтому не надо думать, что помощь — это очень долго, очень сложно и требует какого-то героизма. Это требует чуть-чуть нашего сострадания, даже сострадания к самим себе: мы становился богаче и счастливее, когда понимаем, что «там у бабушки благодаря мне есть новый матрас», «я знаю, что бабушки теперь выезжают в коридор, потому что мы им купили хорошие коляски», «а в этом заведении работают наши нянечки, которым мы платим денежку, они бабушек сажают, выводят на улицу, кормят, с ними занимаются». Когда я это знаю, мне становится хорошо, тепло; что бы ни было, есть места, где мне всегда рады. Если я туда приду просто без ничего, голодная, меня накормят и скажут: «Оставайтесь, на моей кровати ложитесь, мы тут потеснимся». Поэтому, мне кажется, большая печаль, что мы немножко игнорируем наши дома престарелых и замечательных людей, которые там живут. Надеюсь, что это все будет меняться.