V-A-C
Повседневность:
краткая история понятия
краткая история понятия
Фото: George Maciunas
Несмотря на то, что повседневность уже два века находится под прицелом художников, теория искусства не предложила ее последовательной интерпретации. Обращаясь к наследию психоанализа, социологии и критической теории, Никос Папастериадис предлагает новый взгляд на повседневную жизнь современного мира. Сегодня именно повседневность дает ключ к противодействию гомогенизации культуры и подавлению человеческой индивидуальности. T&P публикуют перевод главы из книги «Пространственная эстетика: искусство, место и повседневность», переведенной фондом V-A-C в рамках совместного проекта.
На протяжении большей части XX века понятие «повседневности» редко выходило на поверхность, считаясь маловажным компонентом социологической традиции. Оно было популяризировано в 1980-е годы в рамках полемики в области исследований культуры и вошло в дискурс современного искусства в середине-конце 1990-х годов. За выходом понятия повседневности на авансцену последовал период замешательства и неопределенности в сфере теории. После десятилетий насыщенных споров об отношениях между искусством, властью и дискурсом последовало затишье, и новых работ о значении социального контекста искусства не появлялось. Казалось, что введение в оборот понятия повседневности было нейтральным обозначением самых разных форм художественной практики. Если отношения между искусством, политикой и теорией зашли в тупик, то, как предполагалось, концепция повседневности поможет обнаружить особые формы жизненного опыта, которые направляют работу художника и взаимодейстуют с политикой, не ориентируясь при этом на какую-либо теорию с предвзятыми идеологическими установками.
Хотя эта популярная трактовка понятия повседневности и могла поспособствовать признанию специфического положения искусства и его соотношения с другой общественно значимой деятельностью, история идей недооценила эту концепцию. Понятие повседневности может оставаться нейтральным только до тех пор, пока его используют в самом прямом и привычном смысле. На протяжении XX века оно периодически смещалось: от простого обозначения обыденных элементов общественной жизни до критической категории, которая не только противопоставлялась материальности и тотальности современной культуры, но также служила средством для переопределения действительности с целью вызвать социальные преобразования.
Русские формалисты были одними из первых художников, переосмысливших отношения между искусством и повседневностью. Признав, что искусство всегда состоит в диалектических отношениях с другими культурными событиями, они изобрели новые художественные практики, которые были напрямую вовлечены в материальность производства и разные формы средств массовой информации. Смещение в восприятии повседневности не ограничивалось художниками, потому что, как заметил Джон Робертс, на ранних стадиях Русской революции и Ленин, и Троцкий признавали значимость критического изображения повседневности. Они верили, что литература, кино и театр могут выстраивать «пролетарскую культуру» с новой универсалистской позиции:
«Повседневность должна была создаваться не на основе узкого культурного опыта рабочего класса, а на базисе всей мировой культуры, особенно богатый вклад в которую внесли формы европейской буржуазной культуры, а также мировой культуры в целом, которую унаследовал пролетариат как авангард всего человечества».
Хотя эта популярная трактовка понятия повседневности и могла поспособствовать признанию специфического положения искусства и его соотношения с другой общественно значимой деятельностью, история идей недооценила эту концепцию. Понятие повседневности может оставаться нейтральным только до тех пор, пока его используют в самом прямом и привычном смысле. На протяжении XX века оно периодически смещалось: от простого обозначения обыденных элементов общественной жизни до критической категории, которая не только противопоставлялась материальности и тотальности современной культуры, но также служила средством для переопределения действительности с целью вызвать социальные преобразования.
Русские формалисты были одними из первых художников, переосмысливших отношения между искусством и повседневностью. Признав, что искусство всегда состоит в диалектических отношениях с другими культурными событиями, они изобрели новые художественные практики, которые были напрямую вовлечены в материальность производства и разные формы средств массовой информации. Смещение в восприятии повседневности не ограничивалось художниками, потому что, как заметил Джон Робертс, на ранних стадиях Русской революции и Ленин, и Троцкий признавали значимость критического изображения повседневности. Они верили, что литература, кино и театр могут выстраивать «пролетарскую культуру» с новой универсалистской позиции:
«Повседневность должна была создаваться не на основе узкого культурного опыта рабочего класса, а на базисе всей мировой культуры, особенно богатый вклад в которую внесли формы европейской буржуазной культуры, а также мировой культуры в целом, которую унаследовал пролетариат как авангард всего человечества».
В феврале 2015 года фонд V-A-C запустил новую программу по реализации художественных проектов в городской среде Москвы «Расширение пространства. Художественные практики в городской среде», направленную на распознавание точек взаимного интереса искусства и города, а также исследование способов их взаимодействия, адекватных социальной и культурной жизни Москвы. Одна из важнейших задач проекта — стимулирование общественной и профессиональной дискуссии о роли и возможностях паблик-арта в современной московской среде. В рамках совместного сотрудничества с фондом V-A-C «Теории и практики» подготовили серию теоретических текстов о паблик-арте и интервью с ведущими специалистами в сфере искусства в городской среде, которые делятся с читателями своими идеями о будущем паблик-арта.
Соотнесенная с историей авангарда, концепция повседневности также позволяет заново оценить художественные практики, которые культура мейнстрима могла счесть банальными или маргинальными. От дадаистов и сюрреалистов до ситуационизма и движения Флуксус художники экспериментировали, подрывая конвенциональное использование повседневных предметов и привычные ассоциативные ряды искусства модернизма. В центре этих экспериментов стояла не просто документация артефактов и обычаев современного мира, но также соединение художественной практики с новыми промышленными техниками, чтобы выпустить на свободу тот творческий потенциал современной жизни. Эти художественные союзы воспринимались как витальная сила противодействия гомогенизации культуры и подавлению индивидуальности в современном мире. Привычки восприятия, которые вырабатываются в городе, понимались как «проблемы». Немецкий социолог начала XX века Георг Зиммель описал это притупление критической способности как следствие пресыщенности жизнью в современном городе. Морис Бланшо подчеркнул это открытие, когда определил основное свойство современной культуры как «скуку» — форму сознания, где образы утрачивают свою форму и «гражданин внутри нас» погружается в сон:
«В то время как коннотации термина «повседневное» имеют противоречивую историю, идущую от марксистской социологии (особенно работы Анри Лефевра 1947 года «Критика повседневной жизни»), а затем, проходящую через феноменологию и Ситуационистский интернационал («Революция повседневной жизни» Рауля Ванейгема, опубликованная в 1967 году, была приложением к «Обществу спектакля» Ги Дебора), к тому, что он стал доксой современных исследований культуры, его значение претерпели существенные изменения».
Посредством тактики шока, сопоставления и взаимодействия модернистские художники пытались пробудить «гражданина внутри нас».
Для Бланшо повседневная жизнь была одета сразу в несколько интеллектуальных, политических и культурных смирительных рубашек. Искусство воспринималось как средство обнажения тоталитарной изнанки социальных иллюзий и стимулирования критического восприятия реальности. Внимание к роли произвольного и подсознательного в нашей повседневной жизни наделялось политическим и психологическим измерением. Чтобы сломать преграду условностей, функции искусства расширились: от передачи конкретного сообщения авангард должен был привести к трансформации повседневного сознания. Представляя знакомые объекты с неожиданных точек зрения, художники не только стремились открыть их скрытую поэтичность, но высвободить новое, революционное понимание реальности. Эти амбиции должны были поддержать полемику о роли художника. Однако, несмотря на долгую традицию авангардных экспериментов и неоднократные попытки разрушить границы между популярной культурой и высоким искусством, понятие повседневности по-прежнему не получало должного теоретического осмысления в рамках дискурса современного искусства. Большинство теоретических работ, посвященных концепции повседневности, принадлежат областям социологии, философии и психоанализа.
Для Бланшо повседневная жизнь была одета сразу в несколько интеллектуальных, политических и культурных смирительных рубашек. Искусство воспринималось как средство обнажения тоталитарной изнанки социальных иллюзий и стимулирования критического восприятия реальности. Внимание к роли произвольного и подсознательного в нашей повседневной жизни наделялось политическим и психологическим измерением. Чтобы сломать преграду условностей, функции искусства расширились: от передачи конкретного сообщения авангард должен был привести к трансформации повседневного сознания. Представляя знакомые объекты с неожиданных точек зрения, художники не только стремились открыть их скрытую поэтичность, но высвободить новое, революционное понимание реальности. Эти амбиции должны были поддержать полемику о роли художника. Однако, несмотря на долгую традицию авангардных экспериментов и неоднократные попытки разрушить границы между популярной культурой и высоким искусством, понятие повседневности по-прежнему не получало должного теоретического осмысления в рамках дискурса современного искусства. Большинство теоретических работ, посвященных концепции повседневности, принадлежат областям социологии, философии и психоанализа.
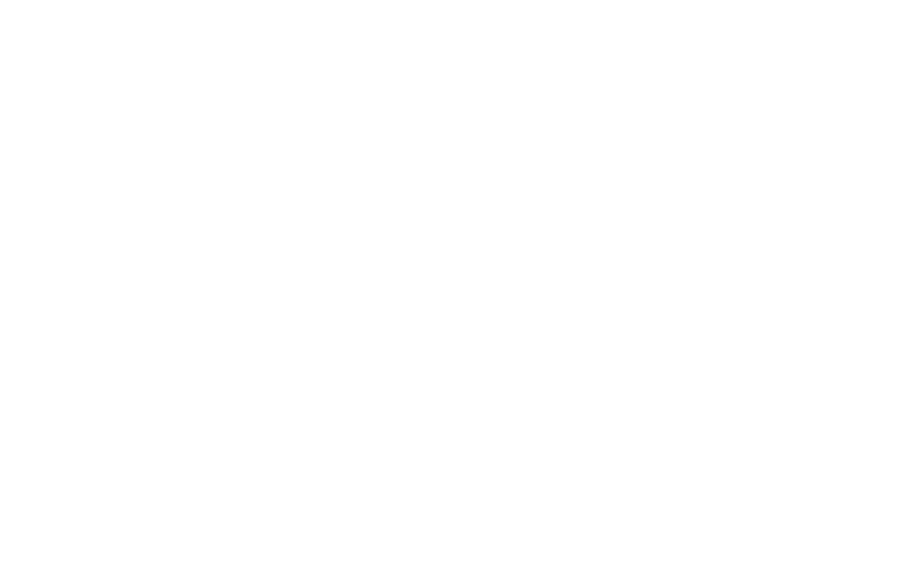
Dora Maurer, Time, 1972
В рамках социологии категория повседневности четко противопоставлена другим концепциям, делающим упор на структурные, трансцендентные или внеисторические силы. Концепция повседневности не была способом уйти от социальной проблематики или вовсе избежать ее, а средством переосмысления отношений между частным и общим или того,как внимание к деталям обыденной жизни помогает выявить сущность более широкой системы. Однако применительно к искусству понятие повседневности получило иную трактовку: считалось, что от более ранних теоретических моделей она отличается тем, что не пытается ни сузить значение искусства до априорных категорий данной политической идеологии, ни объяснить его содержание исходя из предустановленных психоаналитических и философских категорий.
Рассматривать искусство в свете понятия повседневности значит подчеркивать, что критерий для его оценки не стоит заимствовать у других дискурсов, но скорее из его выражения в обыденной жизни. Однако эта цель проникнуть прямиком в жизненный мир, не прибегая к помощи других дискурсов, не может быть достигнута в чистом виде. Прямого доступа к репрезентации повседневности нет. Теории языка, культуры и психики так тесно сплетаются друг с другом при каждой нашей попытке представить детали обыденности. Хотя концепция повседневности и может показаться новым способом выражения контекста художественной практики, нельзя забывать, что она укоренена в продолжительной социологической и философской полемике о практике. В дискурсе истории искусств вроде «искусство и повседневность» можно проследить переход от искусства жизни к политике социальных преобразований.
Критический ответ на реализм в конце XIX века и связанные с ним попытки расширить тематику изобразительного искусства были отчасти вызваны пересмотром буржуазных различий между благородным и заурядным, прекрасным и безобразным, изящным и обыденным. Главные борцы за модернизм вроде Бодлера должны были уделять особое внимание витальной репрезентации «повседневности». Я не ставлю перед собой цели проиллюстрировать, как художники либо боролись с этим процессом, либо пытались покрепче завязать узлы между искусством и повседневностью, скорее, я намерен контекстуализировать это понятие. Как отметил Скотт Маккуайер:
Рассматривать искусство в свете понятия повседневности значит подчеркивать, что критерий для его оценки не стоит заимствовать у других дискурсов, но скорее из его выражения в обыденной жизни. Однако эта цель проникнуть прямиком в жизненный мир, не прибегая к помощи других дискурсов, не может быть достигнута в чистом виде. Прямого доступа к репрезентации повседневности нет. Теории языка, культуры и психики так тесно сплетаются друг с другом при каждой нашей попытке представить детали обыденности. Хотя концепция повседневности и может показаться новым способом выражения контекста художественной практики, нельзя забывать, что она укоренена в продолжительной социологической и философской полемике о практике. В дискурсе истории искусств вроде «искусство и повседневность» можно проследить переход от искусства жизни к политике социальных преобразований.
Критический ответ на реализм в конце XIX века и связанные с ним попытки расширить тематику изобразительного искусства были отчасти вызваны пересмотром буржуазных различий между благородным и заурядным, прекрасным и безобразным, изящным и обыденным. Главные борцы за модернизм вроде Бодлера должны были уделять особое внимание витальной репрезентации «повседневности». Я не ставлю перед собой цели проиллюстрировать, как художники либо боролись с этим процессом, либо пытались покрепче завязать узлы между искусством и повседневностью, скорее, я намерен контекстуализировать это понятие. Как отметил Скотт Маккуайер:
«В то время как коннотации термина «повседневное» имеют противоречивую историю, идущую от марксистской социологии (особенно работы Анри Лефевра 1947 года «Критика повседневной жизни»), а затем, проходящую через феноменологию и Ситуационистский интернационал («Революция повседневной жизни» Рауля Ванейгема, опубликованная в 1967 году, была приложением к «Обществу спектакля» Ги Дебора), к тому, что он стал доксой современных исследований культуры, его значение претерпели существенные изменения».
Генеалогия концепции повседневности может быть прослежена в гораздо более далеком прошлом, и сеть может быть расставлена шире. Майк Фезерстоун находит отголоски этой концепции в античности и опирается в своем исследовании не только на марксистскую, но и на феноменологическую традицию. Древнегреческие философы пристально рассматривали и активно обсуждали вопрос о том, что составляет «хорошую жизнь». В феноменологической традиции термин «жизненный мир» играл центральную роль, и когда Альфред Шюц ввел его в социологию, он определял его в отношении гетерогенности позиций в действии и мышлении, которые вступали в противоречие с господствующими, институционализированными действиями и рационализированными формами мышления. Попытка Агнеш Хеллер синтезировать феноменологическую и марксистскую традиции повседневности привела к характеризации ее как «охватывающей разные отношения, в том числе и рефлексивные отношения». Эти отношения включают не только определяющие место «я» и помогающие постичь окружающий мир, но также и те отношения, которые обладают критическим потенциалом и могут предложить видение «лучшего мира». В ее трактовке повседневная жизнь рассматривается как составная часть «я» и общества. Это совокупность и отношений, формирующих «я», и процессов, формирующих мир.
Хотя концепция повседневности напоминает амебу, чей состав и контуры меняются в зависимости от того, с чем она вступает в контакт и какие смыслы вбирает в себя, необходимо подчеркнуть, что она все-таки не внеположена теории и политике. Концепция повседневности не безгранична. Несмотря на то, что она определяется вопреки однонаправленным или редукционистским теориям социальных преобразований, она не выдвигалась с целью доказать, что существовали некоторые места, которые были абсолютно открытыми и свободными от любых институциональных ограничений. Параметры повседневности можно заострить, сопоставив ее с противоположным понятием — не-повседневностью.
Хотя концепция повседневности напоминает амебу, чей состав и контуры меняются в зависимости от того, с чем она вступает в контакт и какие смыслы вбирает в себя, необходимо подчеркнуть, что она все-таки не внеположена теории и политике. Концепция повседневности не безгранична. Несмотря на то, что она определяется вопреки однонаправленным или редукционистским теориям социальных преобразований, она не выдвигалась с целью доказать, что существовали некоторые места, которые были абсолютно открытыми и свободными от любых институциональных ограничений. Параметры повседневности можно заострить, сопоставив ее с противоположным понятием — не-повседневностью.
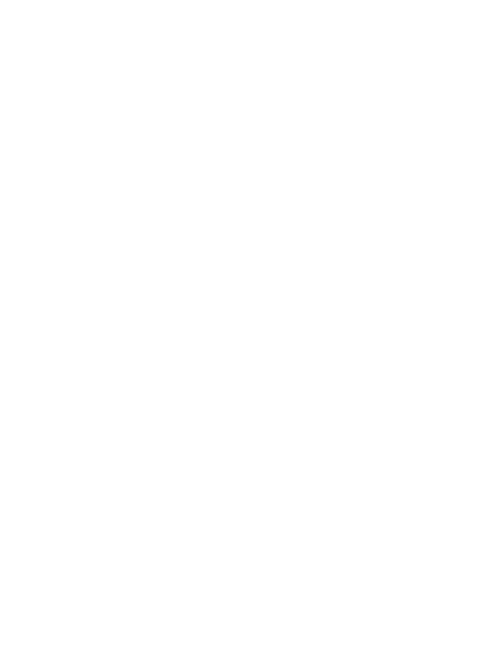
Nam June Paik, Zen for TV, 1963/78
В социологии — особенно в этнометодологической традиции — понятие повседневности использовалась для того, чтобы проверить, может ли теория противостоять либо моделированию миру, устанавливающему обязательные правила, либо тотализирующей абстракции, устанавливающей точную последовательность причин и следствий. Концепция повседневности также играла важную роль в переосмыслении «места» теории. Если мы понимаем теорию как действующую внутри, а не выше или за пределами конкретного контекста, то эта позиция, подразумевающая, что в самих структурах и институциях причастности идет процесс репрезентации, откроет нам такой уровень критики, создаст нам такой угол обзора, откуда мы сможем следить за точной конфигурацией течений и столкновений в общественных отношениях.
Таким образом, теория повседневности оказалась расположенной в пробелах, в промежутках, на окраинах и в пограничных зонах социального. Место и проявление повседневности было установлено, например, в том, когда рабочие уличают те мгновения, которые прерывают монотонный ход работы; или когда мы неожиданным образом получаем удовольствие от продуктов массовой культуры, или когда присваиваем чужое пространство и именуем его домом, или даже когда поп-песня так совпадает с нашим внутренним состоянием, что становится нашим гимном. Повседневность была призвана показать, что существуют такие очаги сопротивления, тактики адаптации и рефлексивные формы субъектности (agency), которые эссенциализирующие и структуралистские модели социальной теории не приняли во внимание.
Учитывая неугомонную и подрывную динамику современности, эта модальность лучше всего подходит для постижения столь симптоматичного для нашего времени чувства смещения и разрыва. Концепция повседневности в критической теории была тесно связана с конфликтом между свободой и отчуждением в современности. Более пессимистичные ответвления марксистской теории — особенно теоретики, находившиеся под влиянием работ Адорно о негативности культуры, — считали, что в лучшем случае повседневность вторит силам принуждения, свойственным современности, или, еще хуже, что она является проявлением того ложного политического перемирия, которое возможно при капитализме. Анри Лефевр, напротив, был одним из первых, кто заявил, что концепция повседневной жизни представляет собой позитивное дополнение к понятию отчуждения Маркса.
Признавая, что капитализм создает такие социальные отношения, которые отчуждают людей от их «родовой сущности» и друг друга, Лефевр также подчеркивал, что концепция повседневности может пролить свет на те сложные способы, которыми субъекты проявляют свой эмансипаторный и критический потенциал. Таким образом Лефевр обозначил новое место в рамках марксистской теории. Для Лефевра значимость понятия повседневности состоит в том, что она указывает на путь преодоления отчужденности. Лефевр был убежден, что отчужденность нельзя преодолеть за счет одних только политических преобразований. Напротив, он отмечал, что при сталинском режиме она только усугубилась. Лефевр считал, что энергия, заключенная в повседневности, исполнена светом. В отличие от идеалистов, относившихся к повседневности с высокомерным презрением, Лефевр верил, что творческое осмысление обыденной жизни может вызвать желание трансформировать общество. Он подчеркивал, что такие популярные формы искусства, как кино и фотография, имеют радикальное содержание и дают смутную надежду на обновление марксистской теории культуры.
Таким образом, теория повседневности оказалась расположенной в пробелах, в промежутках, на окраинах и в пограничных зонах социального. Место и проявление повседневности было установлено, например, в том, когда рабочие уличают те мгновения, которые прерывают монотонный ход работы; или когда мы неожиданным образом получаем удовольствие от продуктов массовой культуры, или когда присваиваем чужое пространство и именуем его домом, или даже когда поп-песня так совпадает с нашим внутренним состоянием, что становится нашим гимном. Повседневность была призвана показать, что существуют такие очаги сопротивления, тактики адаптации и рефлексивные формы субъектности (agency), которые эссенциализирующие и структуралистские модели социальной теории не приняли во внимание.
Учитывая неугомонную и подрывную динамику современности, эта модальность лучше всего подходит для постижения столь симптоматичного для нашего времени чувства смещения и разрыва. Концепция повседневности в критической теории была тесно связана с конфликтом между свободой и отчуждением в современности. Более пессимистичные ответвления марксистской теории — особенно теоретики, находившиеся под влиянием работ Адорно о негативности культуры, — считали, что в лучшем случае повседневность вторит силам принуждения, свойственным современности, или, еще хуже, что она является проявлением того ложного политического перемирия, которое возможно при капитализме. Анри Лефевр, напротив, был одним из первых, кто заявил, что концепция повседневной жизни представляет собой позитивное дополнение к понятию отчуждения Маркса.
Признавая, что капитализм создает такие социальные отношения, которые отчуждают людей от их «родовой сущности» и друг друга, Лефевр также подчеркивал, что концепция повседневности может пролить свет на те сложные способы, которыми субъекты проявляют свой эмансипаторный и критический потенциал. Таким образом Лефевр обозначил новое место в рамках марксистской теории. Для Лефевра значимость понятия повседневности состоит в том, что она указывает на путь преодоления отчужденности. Лефевр был убежден, что отчужденность нельзя преодолеть за счет одних только политических преобразований. Напротив, он отмечал, что при сталинском режиме она только усугубилась. Лефевр считал, что энергия, заключенная в повседневности, исполнена светом. В отличие от идеалистов, относившихся к повседневности с высокомерным презрением, Лефевр верил, что творческое осмысление обыденной жизни может вызвать желание трансформировать общество. Он подчеркивал, что такие популярные формы искусства, как кино и фотография, имеют радикальное содержание и дают смутную надежду на обновление марксистской теории культуры.
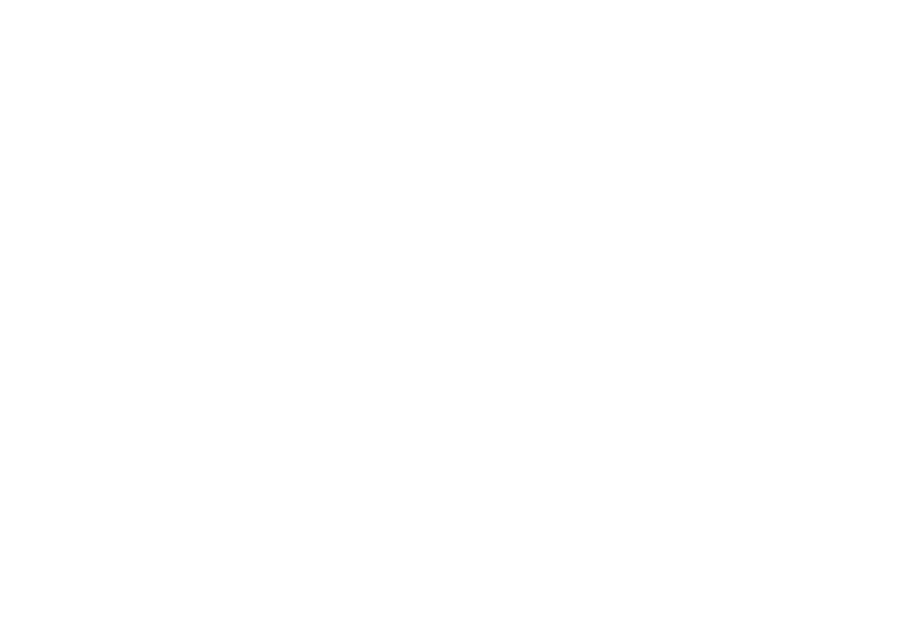
René Magritte, "Ceci n'est pas une pipe"
Однако концепция повседневности Лефевра была ограничена из-за того, что он воспроизвел два изъяна марксистской теории отчуждения. Во-первых, теория собственного «я», которая служила контрапунктом отчужденной субъективности, предполагала существование некой целостной личности. Во-вторых, упор на товаризации труда в определении отчуждения, упускал из виду сферу неэкономического труда. Отчуждение таким образом сводилось к формам односторонних отношений между личностью и ее трудом. Согласно Марксу, если ценность сосредотачивается в объекте труда и если рабочий воспринимается как очередной товар в цепи производства, то начинается процесс отчуждения рабочего от продукта его труда, который умаляет чувство собственной значимости и приводит к овеществлению всех социальных отношений на рабочем месте. В конце концов, рабочий чувствует себя отчужденным от своей природы, собственной сущности и сознания тотальности всех человеческих взаимоотношений. Поэтому Маркс утверждал, что последствием отчуждения является потеря им своей родовой сущности.
В диалектике Маркса пространство повседневности определялось как обратная сторона отчуждения. Именно в нем, как утверждал Маркс, рабочий высвобождается из-под давления трудовых отношений и испытывает подлинное чувство собственной значимости. В этом пространстве, по мнению Маркса, возможно объединение фрагментов социальной реальности с сущностью идентичности. Хеллер тоже продолжила эту линию аргументации, подчеркнув, что марксистская теория «я» подразумевает обязательный союз между личностью и сферой деятельностью, образующей общество. Такое целостное «я» способно как осознавать течение и фрагментацию социальной реальности, так и предлагать критику, основанную на синтезе субъективности и повседневности.
Лефевр развивает свою теорию, для которой характерна логика интеграции, подразумевая под повседневностью все те сферы и институции, которые в своей совокупности и тотальности «определяют конкретного индивидуума». Рассматривая разные аспекты обыденности — от выбора досуга до устройства домашнего хозяйства — Лефевр обращает наше внимание на то, какими сложным способами социальные структуры проникают в нашу жизнь. Этот процесс интернализации не пассивен и не нейтрален. По мере того, как внешние социальные структуры проникают в повседневную жизнь индивида, он их активно трансформирует. Такой процесс интернализации имеет двойной эффект. Она преобразует внутреннее личное пространство, привнося в него элементы внешних структур, но одновременно и вызывает мощную ответную реакцию на поверхности социального. Двусторонние отношения между частью и целым — критический аспект теории Лефевра. Он считает, что «непримечательные события повседневной жизни имеют две стороны»: они отмечены произвольностью конкретного и и содержат в себе суть социального. Лефевр полагал, что проследив воспроизводство целого в практике частичного, он сумел отойти от модели «базиса—надстройка», которая делала марксистскую полемику о культуре бессмысленной. Однако эта двойная связь между частным и общим, где первое рассматривалось и как противоположность, и как изоморф последнего, привела, в свою очередь, к тому, что повседневность оказалась во власти другой формы идеализма.
Понятие повседневности у Мишеля де Серто идет еще дальше и предлагает такое понимание повседневности, которое обходится без идеализации интегративной логики, лежащего в основе марксистской традиции. Проводя аналогию между частью и целым, де Серто также предлагает эффект смещения. Он оказывается более чутким к тем тихим подвижкам, которые происходят при любом акте интернализации:
В диалектике Маркса пространство повседневности определялось как обратная сторона отчуждения. Именно в нем, как утверждал Маркс, рабочий высвобождается из-под давления трудовых отношений и испытывает подлинное чувство собственной значимости. В этом пространстве, по мнению Маркса, возможно объединение фрагментов социальной реальности с сущностью идентичности. Хеллер тоже продолжила эту линию аргументации, подчеркнув, что марксистская теория «я» подразумевает обязательный союз между личностью и сферой деятельностью, образующей общество. Такое целостное «я» способно как осознавать течение и фрагментацию социальной реальности, так и предлагать критику, основанную на синтезе субъективности и повседневности.
Лефевр развивает свою теорию, для которой характерна логика интеграции, подразумевая под повседневностью все те сферы и институции, которые в своей совокупности и тотальности «определяют конкретного индивидуума». Рассматривая разные аспекты обыденности — от выбора досуга до устройства домашнего хозяйства — Лефевр обращает наше внимание на то, какими сложным способами социальные структуры проникают в нашу жизнь. Этот процесс интернализации не пассивен и не нейтрален. По мере того, как внешние социальные структуры проникают в повседневную жизнь индивида, он их активно трансформирует. Такой процесс интернализации имеет двойной эффект. Она преобразует внутреннее личное пространство, привнося в него элементы внешних структур, но одновременно и вызывает мощную ответную реакцию на поверхности социального. Двусторонние отношения между частью и целым — критический аспект теории Лефевра. Он считает, что «непримечательные события повседневной жизни имеют две стороны»: они отмечены произвольностью конкретного и и содержат в себе суть социального. Лефевр полагал, что проследив воспроизводство целого в практике частичного, он сумел отойти от модели «базиса—надстройка», которая делала марксистскую полемику о культуре бессмысленной. Однако эта двойная связь между частным и общим, где первое рассматривалось и как противоположность, и как изоморф последнего, привела, в свою очередь, к тому, что повседневность оказалась во власти другой формы идеализма.
Понятие повседневности у Мишеля де Серто идет еще дальше и предлагает такое понимание повседневности, которое обходится без идеализации интегративной логики, лежащего в основе марксистской традиции. Проводя аналогию между частью и целым, де Серто также предлагает эффект смещения. Он оказывается более чутким к тем тихим подвижкам, которые происходят при любом акте интернализации:
«Наличие и использование в обиходе некоторой репрезентации... никак не указывает на то, чем она является для использующих ее. Необходимо сперва проанализировать, как манипулируют этой репрезентацией те, кто прибегает к ней, не будучи ее производителями. Только тогда можно оценить разрыв и близость, существующую между производством образа и вторичным производством, которое скрывается в процессе его использования».
Именно это стремление постичь разницу между законами, ритуалами и репрезентациями, навязываемыми господствующим порядком, и субверсивными практиками согласия, адаптации и интерпретации со стороны лишенных власти, поддерживает исследование общественных отношений, предпринятое Мишелем де Серто. В фокусе его внимания находятся не запланированные эффекты социальной системы, а то, как она используется людьми, составляющими эту систему. Для де Серто политика повседневности нацелена на те микро-способы, которыми люди подрывают господствующий порядок. Де Серто прослеживает два уровня ответных реакций на то подавляющее и гомогенизирующее воздействие, которое оказывает современность. Первый — это реакция этического характера, позволяющая людям в рамках того или иного общественного строя гуманизировать отношения друг с другом. Второй — это отмеченные де Серто техники противодействия, которые, в условиях строя, который конституирует народное большинство на своей периферии, дают слабым возможность лицемерно и изобретательно использовать сильных. Де Серто утверждает, что эти ответные тактики необходимы, так как человек все чаще оказывается в ситуации, когда социальные структуры нестабильны, границы подвижны, а обстоятельства слишком сложны и пространны, чтобы можно было их контролировать или вырваться из них.
С этой точки зрения, понятие повседневности де Серто значительно отличается от взглядов Лефевра. Учитывая сложность и разнообразие социального поля повседневности, де Серто не берется утверждать, что часть может передать сущность целого. Посредством изменения форм производства, перемещения главных центров управления, стремительного роста международной финансовой и спекулятивной торговли, все более активного проникновения медиа-индустрии в местные культуры и появления новых маршрутов миграции, глобализация усложнила и фрагментировала общественное устройство. Идентичность социального «целого» уже невозможно репрезентировать при помощи однозначных категорий и четко заданных границ. Этот пересмотр идентичности целого также усложняет репрезентативный статус части. К примеру, может ли искусство повседневности представить жизненный мир всей страны? Или должны ли мы делать менее обширные и более конкретные выводы о связи между частным, которое всегда представляет собой ответную тактику на целый ряд противоречивых требований, и целым, которое стало слишком сложным и фрагметированным, что вряд ли уже может выглядеть единым? Теперь каждый человек на микро-уровне своей повседневной жизни вынужден проявлять ум, хитрость и изворотливость как для того, чтобы выжить, так и для того, чтобы доставить себе удовольствие. «Эти изменения делают текст обитаемым, наподобие съемной квартиры».
Метафора дома очень удачно передает суть этой изгнаннической эпохи. По мнению де Серто, наше пребывание в современном мире, т. е. наше умение проникнуть в настоящее и делать смысл нашего времени запоминающимся и позитивным, уподобляется аренде квартиры. Пространство нам не принадлежит, структуры уже заданы, и обитать мы будем здесь невечно. Однако практика проживания не ограничена и не предопределена архитектурой здания. Мы въезжаем в квартиру со своим багажом, обставляем ее своими воспоминаниями и надеждами и привносим изменения, которые придают форму нашим желаниям и потребностям. Тот порядок, согласно которому устанавливается наша принадлежность чему-то, подобны отпечаткам пальцев нашей социальной идентичности.
С этой точки зрения, понятие повседневности де Серто значительно отличается от взглядов Лефевра. Учитывая сложность и разнообразие социального поля повседневности, де Серто не берется утверждать, что часть может передать сущность целого. Посредством изменения форм производства, перемещения главных центров управления, стремительного роста международной финансовой и спекулятивной торговли, все более активного проникновения медиа-индустрии в местные культуры и появления новых маршрутов миграции, глобализация усложнила и фрагментировала общественное устройство. Идентичность социального «целого» уже невозможно репрезентировать при помощи однозначных категорий и четко заданных границ. Этот пересмотр идентичности целого также усложняет репрезентативный статус части. К примеру, может ли искусство повседневности представить жизненный мир всей страны? Или должны ли мы делать менее обширные и более конкретные выводы о связи между частным, которое всегда представляет собой ответную тактику на целый ряд противоречивых требований, и целым, которое стало слишком сложным и фрагметированным, что вряд ли уже может выглядеть единым? Теперь каждый человек на микро-уровне своей повседневной жизни вынужден проявлять ум, хитрость и изворотливость как для того, чтобы выжить, так и для того, чтобы доставить себе удовольствие. «Эти изменения делают текст обитаемым, наподобие съемной квартиры».
Метафора дома очень удачно передает суть этой изгнаннической эпохи. По мнению де Серто, наше пребывание в современном мире, т. е. наше умение проникнуть в настоящее и делать смысл нашего времени запоминающимся и позитивным, уподобляется аренде квартиры. Пространство нам не принадлежит, структуры уже заданы, и обитать мы будем здесь невечно. Однако практика проживания не ограничена и не предопределена архитектурой здания. Мы въезжаем в квартиру со своим багажом, обставляем ее своими воспоминаниями и надеждами и привносим изменения, которые придают форму нашим желаниям и потребностям. Тот порядок, согласно которому устанавливается наша принадлежность чему-то, подобны отпечаткам пальцев нашей социальной идентичности.
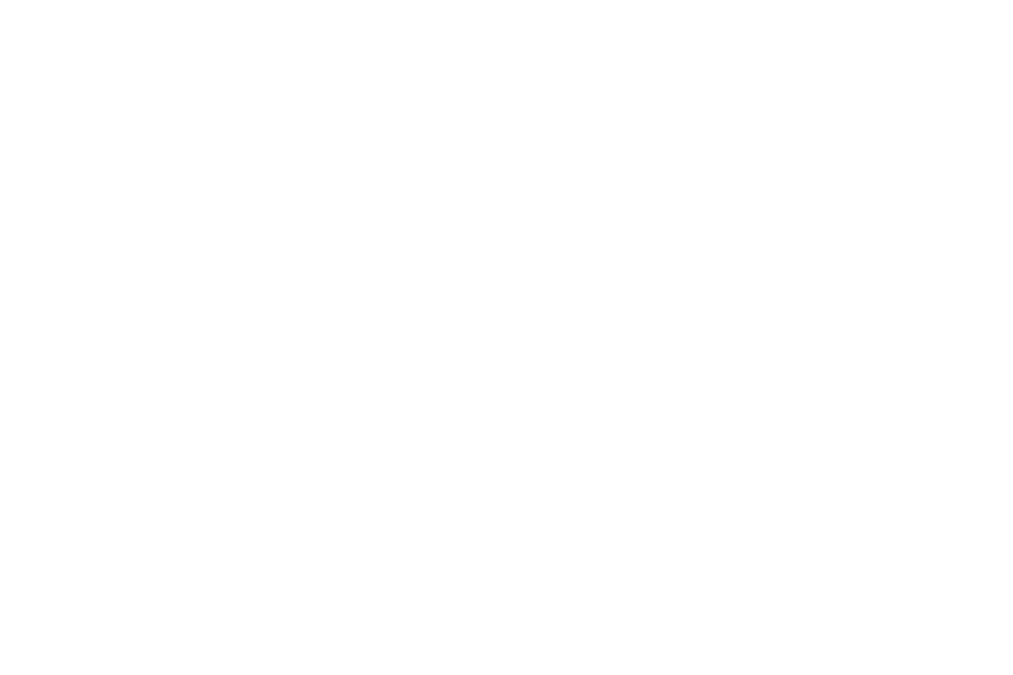
Fluxus
Дом полон эмотивных ассоциаций и социальных смыслов, но в отличие от своих исторических предшественников, современный дом обретает свою идентичность в колебании между прибытием и отъездом, интеграцией и фрагментацией. Зигмунт Бауман описал наши современные взаимоотношения с домом не столько как смену места (displacement), сколько как отсутствие постоянного места (unplacement). Помимо того, что сейчас больше людей живет в далеких и незнакомых им местах, даже те, кто никуда не уехал, все острее чувствуют утрату ощущения места. Представление о доме необходимо объединить с чувством причастности. «Дом более не подразумевает жилище — теперь это невыразимая история проживания жизни». Слово «дом» (home) должно выступать и как глагол, а не только как существительное. Потому как дом более не сводится к какому-то месту из прошлого, где наше представление о собственном происхождении имеет географическую определенность; он также предстает как некий предел, который избегает настоящего, но влечет нас на поиск новых и новых «пунктов назначения». Как и все, связанное с предназначением, дом вызывает в нас бесконечное стремление достичь его, но испытать полное и окончательное чувство прибытия нам теперь никогда не удается. Значение понятия «дом» сегодня сочетает в себе место происхождения и наши попытки реализовать свое предназначение. Чтобы рассказать историю жизни, проведенной в доме, мы должны сделать то, что Джон Берджер называет «бриколажем души». Когда Гастон Башляр применил инструменты психоанализа к структуре дома, назвав чердак Сверх-Я, первый этаж – Я, а подвал – Оно и тем самым выдвинув метод топоанализа, он позволил нам впервые заглянуть в душу архитектуры. А может он угадал архитектуру души? Обращаясь к таким фигуративным техникам, Башляр показал, как можно установить смысл через ассамбляж фрагментов, составляющими наш дом.
Психоанализ, который Фрейд направлял на то, чтобы раскрыть тайные смыслы банального и незначительного в повседневных привычках, был извлечен Башляром из своего чисто терапевтического контекста и перенесен в область критической поэтики. Психоанализ углубляет наше понимание повседневности, если его применение не сводится к диагностическим и медицинским нуждам, а расширяется до исследования психических импульсов в конституировании социального. Хотя психоанализ и не способен избавить нас от всех беспорядочных желаний и невротических привычек повседневности, просто «проработав» их происхождение из «первичных сцен», он подвел нас к пониманию вытесненного в повседневном, обеспечил нам эпистемологическое проникновение в устройство психики и обнажил уровни бессознательного, скрытые за общепринятым различием правды и лжи. В одной из своих ранних работ, «Психопатология обыденной жизни», Фрейд указал, что что-то всегда уходит из вида, что-то остается недоговоренным, даже если человек искренне излагает свои взгляды и напрягает память. По мнению Фрейда, это неуловимое «что-то» находится в сфере бессознательного. Несмотря на настойчивые попытки Фрейда утвердить психоанализ в статусе науки, сегодня он представляет наибольшую ценность как творческий метод, позволяющий выудить из нашего молчаливого отрицания осколки истины и распознать те следы, которые они оставили в нашем опыте повседневности.
Опираясь на теории психоанализа и марксизма, франкфуртская школа отыскала еще больше «путей желаний» (itinerary of desire) в повседневной жизни. Адорно и Хоркхаймер осознавали, что в области политики произошло два существенных сдвига. В отличие от классических марксистов, они больше не считали, что пролетариат можно рассматривать как авангард общества, кроме того, они утратили веру в то, что внутренняя историческая динамика неизбежно приведет к краху капиталистической системы. Адорно и Хоркхаймер искали в психоанализе новые подсказки, которые помогут объяснить культуру выживания. Определяющей для их критики, направленной против доминирования и власти, была теория искупительного потенциала памяти. Функция памяти не сводилась к ностальгическому возврату в прошлое — она была призвана стать частью эмансипаторного проекта по вскрытию элементов субъективности и усилению рефлексивного начала, подавленного инструментальным рационализмом современного мира.
С этой точки зрения, в которой объединились теория отчуждения Маркса и теория вытеснения Фрейда, можно утверждать, что динамика культуры и роль субъектности (agency) никогда не может быть сведена до одного только негативного или позитивного проявления материальных форм производства. Если огромным вкладом Маркса в социальную теорию стало то, что он вывел интеллигенцию на поле сражения, то равноценным эпистемологическим достижением Фрейда можно назвать идею, что аналитик обязан посредством акта переноса предоставить собственное тело в качестве модели для вскрытия значений прошлого и преобразования повседневности. После Маркса и Фрейда критическая дистанция между субъектом и объектом была переосмыслена. Эти теории вдохнули надежду в наше понимание уровней свободы в повседневности. Это породило новое представление о том, насколько мы способны распознать те возможности, которые нам даны в рамках судьбы.
Психоанализ, который Фрейд направлял на то, чтобы раскрыть тайные смыслы банального и незначительного в повседневных привычках, был извлечен Башляром из своего чисто терапевтического контекста и перенесен в область критической поэтики. Психоанализ углубляет наше понимание повседневности, если его применение не сводится к диагностическим и медицинским нуждам, а расширяется до исследования психических импульсов в конституировании социального. Хотя психоанализ и не способен избавить нас от всех беспорядочных желаний и невротических привычек повседневности, просто «проработав» их происхождение из «первичных сцен», он подвел нас к пониманию вытесненного в повседневном, обеспечил нам эпистемологическое проникновение в устройство психики и обнажил уровни бессознательного, скрытые за общепринятым различием правды и лжи. В одной из своих ранних работ, «Психопатология обыденной жизни», Фрейд указал, что что-то всегда уходит из вида, что-то остается недоговоренным, даже если человек искренне излагает свои взгляды и напрягает память. По мнению Фрейда, это неуловимое «что-то» находится в сфере бессознательного. Несмотря на настойчивые попытки Фрейда утвердить психоанализ в статусе науки, сегодня он представляет наибольшую ценность как творческий метод, позволяющий выудить из нашего молчаливого отрицания осколки истины и распознать те следы, которые они оставили в нашем опыте повседневности.
Опираясь на теории психоанализа и марксизма, франкфуртская школа отыскала еще больше «путей желаний» (itinerary of desire) в повседневной жизни. Адорно и Хоркхаймер осознавали, что в области политики произошло два существенных сдвига. В отличие от классических марксистов, они больше не считали, что пролетариат можно рассматривать как авангард общества, кроме того, они утратили веру в то, что внутренняя историческая динамика неизбежно приведет к краху капиталистической системы. Адорно и Хоркхаймер искали в психоанализе новые подсказки, которые помогут объяснить культуру выживания. Определяющей для их критики, направленной против доминирования и власти, была теория искупительного потенциала памяти. Функция памяти не сводилась к ностальгическому возврату в прошлое — она была призвана стать частью эмансипаторного проекта по вскрытию элементов субъективности и усилению рефлексивного начала, подавленного инструментальным рационализмом современного мира.
С этой точки зрения, в которой объединились теория отчуждения Маркса и теория вытеснения Фрейда, можно утверждать, что динамика культуры и роль субъектности (agency) никогда не может быть сведена до одного только негативного или позитивного проявления материальных форм производства. Если огромным вкладом Маркса в социальную теорию стало то, что он вывел интеллигенцию на поле сражения, то равноценным эпистемологическим достижением Фрейда можно назвать идею, что аналитик обязан посредством акта переноса предоставить собственное тело в качестве модели для вскрытия значений прошлого и преобразования повседневности. После Маркса и Фрейда критическая дистанция между субъектом и объектом была переосмыслена. Эти теории вдохнули надежду в наше понимание уровней свободы в повседневности. Это породило новое представление о том, насколько мы способны распознать те возможности, которые нам даны в рамках судьбы.
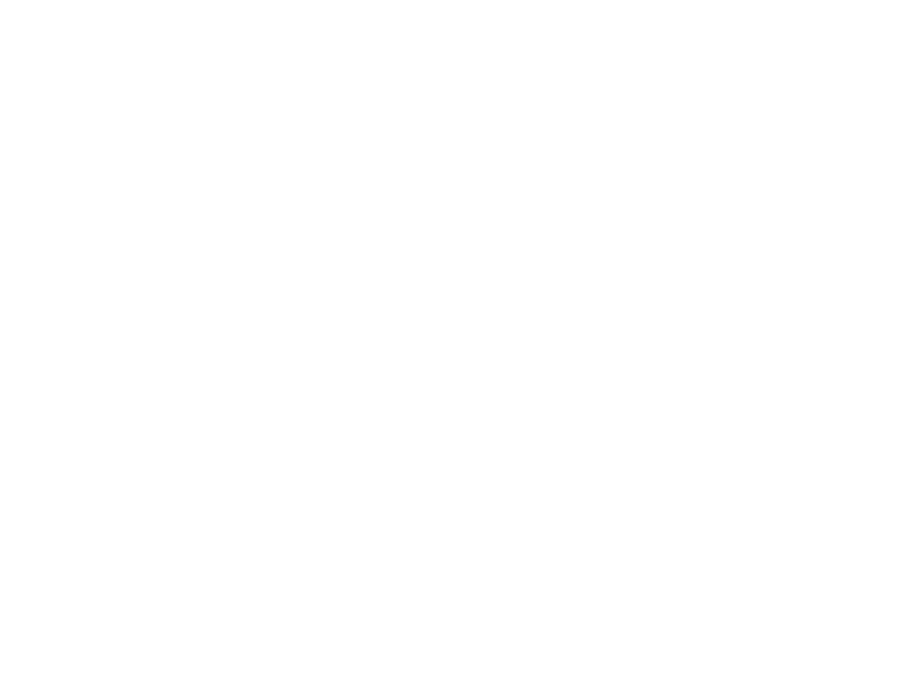
Ben Vautier. Total Art Match Box from Flux Year Box 2. c. 1965
Будущее окажется таким же, как и прошлое; не в том смысле, что все повторится, а в смысле, что его невозможно предугадать. Поэтому одна из задач анализа — освободить людей, чтобы они не пытались сделать с будущим что-либо иное, кроме как им интересоваться.
Теоретику, аналитику и художнику больше не нужно утверждать свою отчужденность от социального, чтобы занять радикальную позицию. Отношения между абстрактным и конкретным более не могут мыслиться как, говоря словами Вальтера Беньямина, «улица с односторонним движением». Культура повседневности не была какой-нибудь механической деталью, послушно вращающейся на стержне господствующего строя. Что самое главное, концепция повседневности бросила вызов тенденциям структурного детерминизма внутри социальной теории. По мнению Петера Бюргера, она также послужила основой для обновления как левого, так и авангардного искусства, вернув «искусство в практику жизни».
Агенты не могут восприниматься как всего-навсего «марионетки» всеобъемлющей идеологии. Привлекая внимание к сложным двусторонним отношениям между агентом и структурой, теории повседневности оспаривали мнение, будто перемены могут быть только навязаны сверху или вызваны исключительно внешними силами. Повседневность стала той концепцией, которая позволила понять, что стратегии сопротивления в практике жизни не всегда открыто оппозиционны. Геройство и этика повседневности не предстают перед нами в обличье ни титана, ни святого, вместо этого, они проявляются в едва различимых актах причастности и утраты места. Дух сопротивления не всегда спускается сверху или приходит извне — иногда он зарождается внутри.
Важно подчеркнуть ограниченность индивидуального действия. Выбор часто путают со свободой, тем самым преувеличивая масштабы повседневности. Социологическая полемика о субъектности и повседневности пыталась проследить ту радиальную сеть и механизмы критического ответа, которые связывают индивидуальный выбор и социальные структуры. Способность личности сделать выбор всегда ограничена более широким контекстом, но эти внутренние практики всегда оказывают воздействие на внешние структуры. Поэтому поток рассматривался не только как снисходящий сверху, но как хаотично циркулирующий и бегущий в разных направлениях. Так как люди сознательно используют господствующие структуры, создается эффект двойного смещения: на микро-уровне аффектируется их субъективность, а на макро-уровне границы системы сдвигаются в соответствии с со специфическими формами использования. Внешние силы трансформируются в процессе их интернализации субъективностью индивида, что оказывает дестабилизирующее воздействие на социальные структуры и вызывает сдвиг в изначальном состоянии идентичности. Таким образом, понятие повседневности является частью традиции обнаружения потенциала для критической практики и для выдвижения альтернативных мнений о том, что составляет «хорошую жизнь».
Ключевым преимуществом концепции повседневности было то, что она подчеркнула потенциал трансформации на уровне индивидуального опыта. Она показала, что радикальные жесты наблюдаются и в незначительных поступках, совершаемых людьми в ходе их обыденной жизни. Однако, как заметила Лоис Макнэй, теоретики культуры начали растягивать эмансипационный потенциал повседневности и фетишизировать микро-революционные жесты индивидуальных практик. По мнению Макнэй, критические измерения культурной теории была непропорционально направлена на незначительные поступки индивидуума. Гибридные идентичности, собранные из противоречивых сил повседневной жизни, рассматривались как идеальная форма выживания, а не как критика общих структур. Делая упор на свободах и удовольствиях, находимых в «контр-культурной» деятельности, теоретики начали размывать политический процесс противоборства. Они повысили значимость субъектности индивидуального и оставили без внимания дискуссию о структурных пределах в коллективном присвоении власти.
Теоретику, аналитику и художнику больше не нужно утверждать свою отчужденность от социального, чтобы занять радикальную позицию. Отношения между абстрактным и конкретным более не могут мыслиться как, говоря словами Вальтера Беньямина, «улица с односторонним движением». Культура повседневности не была какой-нибудь механической деталью, послушно вращающейся на стержне господствующего строя. Что самое главное, концепция повседневности бросила вызов тенденциям структурного детерминизма внутри социальной теории. По мнению Петера Бюргера, она также послужила основой для обновления как левого, так и авангардного искусства, вернув «искусство в практику жизни».
Агенты не могут восприниматься как всего-навсего «марионетки» всеобъемлющей идеологии. Привлекая внимание к сложным двусторонним отношениям между агентом и структурой, теории повседневности оспаривали мнение, будто перемены могут быть только навязаны сверху или вызваны исключительно внешними силами. Повседневность стала той концепцией, которая позволила понять, что стратегии сопротивления в практике жизни не всегда открыто оппозиционны. Геройство и этика повседневности не предстают перед нами в обличье ни титана, ни святого, вместо этого, они проявляются в едва различимых актах причастности и утраты места. Дух сопротивления не всегда спускается сверху или приходит извне — иногда он зарождается внутри.
Важно подчеркнуть ограниченность индивидуального действия. Выбор часто путают со свободой, тем самым преувеличивая масштабы повседневности. Социологическая полемика о субъектности и повседневности пыталась проследить ту радиальную сеть и механизмы критического ответа, которые связывают индивидуальный выбор и социальные структуры. Способность личности сделать выбор всегда ограничена более широким контекстом, но эти внутренние практики всегда оказывают воздействие на внешние структуры. Поэтому поток рассматривался не только как снисходящий сверху, но как хаотично циркулирующий и бегущий в разных направлениях. Так как люди сознательно используют господствующие структуры, создается эффект двойного смещения: на микро-уровне аффектируется их субъективность, а на макро-уровне границы системы сдвигаются в соответствии с со специфическими формами использования. Внешние силы трансформируются в процессе их интернализации субъективностью индивида, что оказывает дестабилизирующее воздействие на социальные структуры и вызывает сдвиг в изначальном состоянии идентичности. Таким образом, понятие повседневности является частью традиции обнаружения потенциала для критической практики и для выдвижения альтернативных мнений о том, что составляет «хорошую жизнь».
Ключевым преимуществом концепции повседневности было то, что она подчеркнула потенциал трансформации на уровне индивидуального опыта. Она показала, что радикальные жесты наблюдаются и в незначительных поступках, совершаемых людьми в ходе их обыденной жизни. Однако, как заметила Лоис Макнэй, теоретики культуры начали растягивать эмансипационный потенциал повседневности и фетишизировать микро-революционные жесты индивидуальных практик. По мнению Макнэй, критические измерения культурной теории была непропорционально направлена на незначительные поступки индивидуума. Гибридные идентичности, собранные из противоречивых сил повседневной жизни, рассматривались как идеальная форма выживания, а не как критика общих структур. Делая упор на свободах и удовольствиях, находимых в «контр-культурной» деятельности, теоретики начали размывать политический процесс противоборства. Они повысили значимость субъектности индивидуального и оставили без внимания дискуссию о структурных пределах в коллективном присвоении власти.
