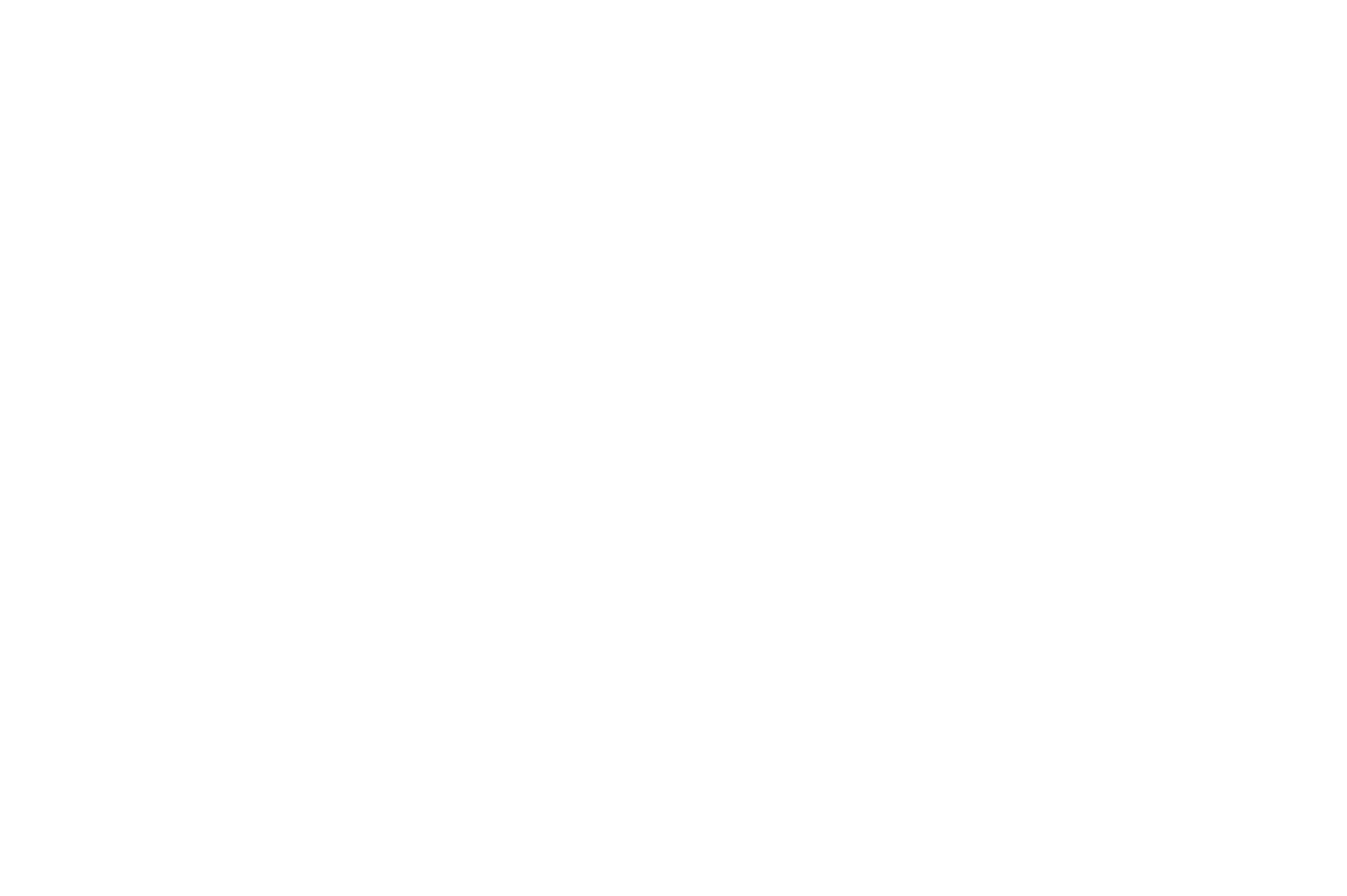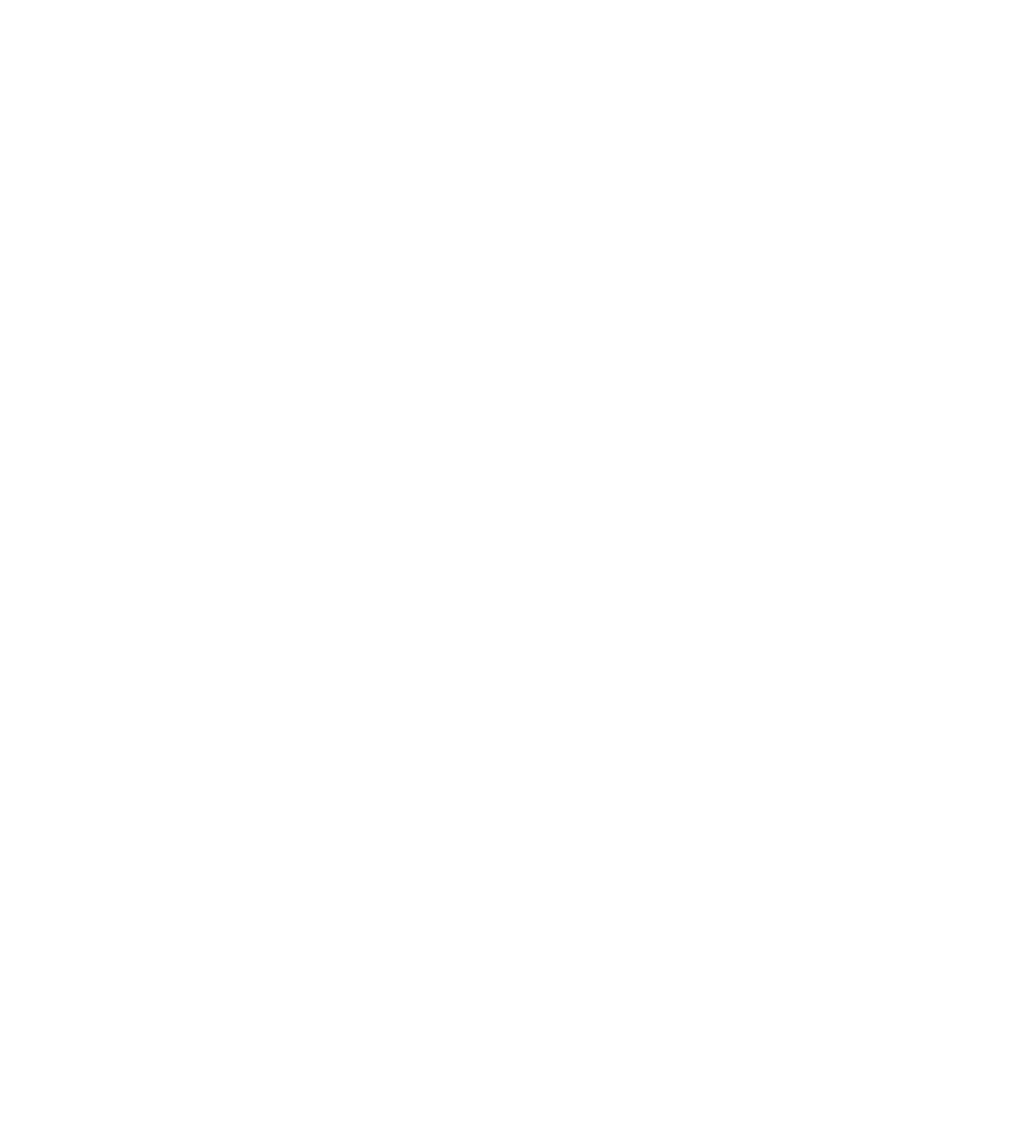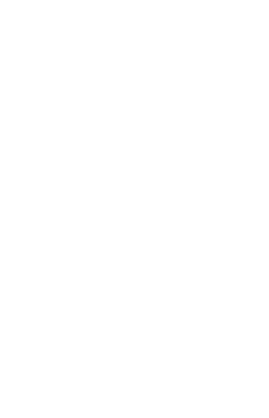Политика памяти:
как и зачем государства формируют свою историю
Вопрос отношения к прошлому и его интерпретации занимает важное место в политическом дискурсе любого государства — и определяющего геополитическую ситуацию, и того, что находится на периферии глобального политического поля. T&P решили разобраться, как устроена политика памяти в разных странах, какими инструментами пользуются чиновники для создания тех или иных народных скреп и какие проблемы стоят в связи с этим перед современным российским обществом.
Любой нации необходимо подкрепление ощущения права на существование, которое, в свою очередь, необходимо как-то обосновывать. В материалах об исторической политике (как сознательном, целенаправленном конструировании исторических оценок и трактовок прошлого государственными и окологосударственными институциями) и о политике памяти в современной России и других государствах (как деятельности широкого спектра институтов, воспроизводящей национальную и/или этническую идентичность) мы чаще всего видим рассуждения о роли и значении победы СССР над нацистской Германией, функции прочих государств в этом противостоянии и наследии режимов, которые участвовали в главном конфликте новейшей истории.
Историческая политика — набор практик, с помощью которых отдельные политические силы стремятся утвердить определенные интерпретации исторических событий как доминирующие.
Конечно, в этом нет ничего удивительного. Шокирующий масштаб, небывалое количество жертв и огромное число вовлеченных в борьбу людей сделали Вторую мировую войну определяющим событием современной истории (то есть той, о которой можно услышать непосредственно из уст ее участников), ориентиром для формирования исторической политики в государствах-участниках. Мы же попробуем обрисовать отдельные моменты исторической политики и политики памяти в более широком контексте, уходящем корнями в национальный или этнический менталитет. Перед этим, однако, надо отметить, что сама по себе историческая политика — инструмент априори спорный. С помощью трактовки тех или иных исторических фактов она решает актуальные политические задачи, основные из которых — легитимация правящих режимов и формирование идентичностей с заранее заданными политическими параметрами. Исторические оценки, не соответствующие этим задачам, могут повлечь за собой санкции со стороны государства для тех людей, которые эти оценки высказывают.
Одним из элементов, необходимых для формирования политической нации, является учредительное событие, за которое цепляется народная память
Так как историческая политика используется в первую очередь для легитимации действий существующей власти, а политика памяти — для формирования коллективной идентичности, которая призвана эту деятельность поддерживать, то в случае России мы можем говорить о наличии государственно поощряемого почитания победы в Великой Отечественной войне и частичного одобрения тех или иных действий советской власти в военный и иные периоды XX века. Это подкрепляется акцентом на исконном отличии русского народа (у кого-то — российского) от западноевропейских государств, подаваемого обычно в дихотомии «мы — они». Такой подход требует наличия, хотя бы временного, так называемой политической нации, которая будет служить сопровождением и поддержкой действий государства. Одним из элементов, необходимых для формирования политической нации, является так называемое учредительное событие, за которое цепляется народная память. На данный момент Великая Отечественная война, спустя время концентрированно выраженная в празднике День Победы, и является таким событием, поскольку все попытки государства сконструировать дату, которую можно было бы считать началом «новой» России, приемлемым для формирующейся демократии, оказались бесполезны. Достаточно вспомнить 4 ноября — пресловутый День народного единства, который ассоциируется сейчас только с провластными митингами и «Русскими маршами».
Роза Шанина, снайпер; Советские военные летчицы, Крым. 1944 год; Моряки Тихоокеанского флота водружают флаг ВМФ СССР над бухтой Порт-Артура. 25 августа 1945 года.
В такой дихотомии вся история России представляется замкнутой в некий порочный круг авторитаризма, что соответствующе сказывается и на внутренней политике государства. Говоря словами исследователя Алексея Миллера, «есть якобы присущая истории России неизменность определенных ключевых характеристик. Долгая имперская традиция, например, осмысливается как постоянно возвращающееся, вкупе с деспотизмом, свойство российской власти. История России предстает как совершенно уникальная и, по сути, безысходная череда реинкарнаций этой деспотической власти. Страна движется по порочной колее, и выход из нее кажется либо невозможным, либо лежащим через радикальную борьбу с государством, через революцию, разрушающую старый мир до основания» (Алексей Миллер. История империй и политика памяти. Журнал «Россия в глобальной политике» №4, 2008, с. 118–134).
Такой подход вкупе с пониманием последствий революций формирует у населения покорность перед властью, покуда последняя заявляет о своей готовности противостоять внешним врагам. При этом население, хоть и чувствует себя подавляемым этой властью, не собирается ничего предпринимать для противодействия подавлению, что только его закрепляет. Усиливает его и идентификация себя как народа-миссионера, единственно способного отвратить от мира некую абстрактную угрозу исконными моральными ценностями, пусть для этого даже придется выдержать определенную долю страданий и угнетения. Все эти элементы политики памяти, направленной одновременно и в будущее, можно охарактеризовать как самореализующееся пророчество, то есть предсказание, которое «стихийно управляет поведением людей и приводит к ожидавшимся ими результатам».
Такой подход вкупе с пониманием последствий революций формирует у населения покорность перед властью, покуда последняя заявляет о своей готовности противостоять внешним врагам. При этом население, хоть и чувствует себя подавляемым этой властью, не собирается ничего предпринимать для противодействия подавлению, что только его закрепляет. Усиливает его и идентификация себя как народа-миссионера, единственно способного отвратить от мира некую абстрактную угрозу исконными моральными ценностями, пусть для этого даже придется выдержать определенную долю страданий и угнетения. Все эти элементы политики памяти, направленной одновременно и в будущее, можно охарактеризовать как самореализующееся пророчество, то есть предсказание, которое «стихийно управляет поведением людей и приводит к ожидавшимся ими результатам».
В противовес российской исторической политике, которая обращается к некой исконно русской национальной идентичности, в политике восточноевропейских и прибалтийских государств всячески подчеркивается статус наций-жертв. В поддержку этого созданы специальные учреждения и институты, занимающиеся продвижением виктимной исторической политики и акцентированием внимания на преступлениях режимов стран-оккупантов. В Польше такие функции выполняет Институт национальной памяти, имеющий отделения во всех крупных городах, в Литве это Центр геноцида и резистенции, в Латвии — Комиссия по установлению числа жертв тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР и мест их массового захоронения, обобщению информации о репрессиях и массовых депортациях и подсчету причиненного латвийскому государству и его жителям ущерба, в Эстонии также функционируют несколько подобных организаций.
Не в пример отечественной Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, которая приказала долго жить в начале 2012 года, эти структуры работают в восточноевропейских странах весьма успешно, проводя государственную историческую политику на максимально широком уровне. По мнению директора фонда «Историческая память» Александра Дюкова, к подобным организациям можно отнести и музеи оккупации, которые есть в любой восточноевропейской стране, знакомой с этим понятием (Александр Дюков. Историческая политика или политическая память. Журнал «Международная жизнь» №1, 2010, с. 133–148). Наличие таких музеев — некое общее место, дань восточноевропейской исторической политике в целом. Например, в Венгрии, в Будапеште такой музей есть, и там, как и во всех подобных пространствах, рельефно отражен ущерб, нанесенный венгерскому народу нацистской и советской оккупацией. При этом венгерскому правительству не свойственны требования компенсаций и признаний исторической вины, поскольку активное и добровольное участие венгров в депортации и уничтожении евреев и оккупации частей соседней Чехословакии очевидно и, пожалуй, не является предметом дискуссий. В целом память о прошлом у восточноевропейских соседей России проникнута, по словам венгерского же мыслителя Иштвана Тибо, «экзистенциальным страхом, переживаемым на коллективном уровне, перед лицом реальной или воображаемой угрозы гибели национальной общности в результате лишения государственной самостоятельности, ассимиляции, депортации либо геноцида». Этот страх, по словам Алексея Миллера, связывался с более крупными соседями: турками, немцами, Россией. Этот экзистенциальный страх, пожалуй, является основным фактором, определяющим историческую политику в этих странах.
Не в пример отечественной Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, которая приказала долго жить в начале 2012 года, эти структуры работают в восточноевропейских странах весьма успешно, проводя государственную историческую политику на максимально широком уровне. По мнению директора фонда «Историческая память» Александра Дюкова, к подобным организациям можно отнести и музеи оккупации, которые есть в любой восточноевропейской стране, знакомой с этим понятием (Александр Дюков. Историческая политика или политическая память. Журнал «Международная жизнь» №1, 2010, с. 133–148). Наличие таких музеев — некое общее место, дань восточноевропейской исторической политике в целом. Например, в Венгрии, в Будапеште такой музей есть, и там, как и во всех подобных пространствах, рельефно отражен ущерб, нанесенный венгерскому народу нацистской и советской оккупацией. При этом венгерскому правительству не свойственны требования компенсаций и признаний исторической вины, поскольку активное и добровольное участие венгров в депортации и уничтожении евреев и оккупации частей соседней Чехословакии очевидно и, пожалуй, не является предметом дискуссий. В целом память о прошлом у восточноевропейских соседей России проникнута, по словам венгерского же мыслителя Иштвана Тибо, «экзистенциальным страхом, переживаемым на коллективном уровне, перед лицом реальной или воображаемой угрозы гибели национальной общности в результате лишения государственной самостоятельности, ассимиляции, депортации либо геноцида». Этот страх, по словам Алексея Миллера, связывался с более крупными соседями: турками, немцами, Россией. Этот экзистенциальный страх, пожалуй, является основным фактором, определяющим историческую политику в этих странах.
Парк Грутас, Литва
В Старой Европе (в первую очередь в послевоенной Германии) память о прошлом на различных уровнях формировалась с учетом результатов Второй мировой войны и факта холокоста. Конечно, эта политика была с разными метками: в ФРГ все усилия были направлены на становление демократических институтов, даже путем амнистии бывших функционеров Третьего рейха, что было особенно характерно для начального периода существования разделенной Германии. Все заявления лидеров и референтных групп в немецком политическом пространстве, имевшие отношение к исторической политике, сводились к признанию меры ответственности (в большей или меньшей степени) германского народа за события, сопутствовавшие нацистскому режиму. В ГДР отмежевание от нацистского прошлого проходило более радикально: элита функционеров была полностью заменена, а период Третьего рейха понимался, по словам исследователя Ютты Шерер, как «чужая» история (Ютта Шерер. Германия и Франция. Проработка прошлого. Из сборника статей «Историческая политика в XXI веке». НЛО, 2012). Германская Демократическая Республика рассматривалась как страна-победительница, которая подавила диктатуру национал-социализма, в том числе с помощью коммунистического Сопротивления, роль которого после объединения Германии, конечно, была переосмыслена.
Мемориал жертвам холокоста, Берлин
В послевоенной Франции историческая политика носила в основном терапевтическую функцию. Французский народ в плане исторической памяти находился в подвешенном состоянии. С одной стороны, была широко разрекламирована деятельность французского Сопротивления, которая на деле часто носила фрагментарный, а не массовый характер. С другой стороны, раздавались призывы подробно исследовать, оценить и, скорее всего, осудить политику режима Виши — как минимум в отношении евреев. Эта ситуация усугублялась неоднозначными законами по поводу бывших колоний Франции, в первую очередь Алжира. Одни законы обрисовывали подконтрольность этих территорий Франции как позитивный момент, другие, наоборот, делали акцент на негативной составляющей данного явления. Надо сказать, что историческая политика Франции в настоящий момент носит амбивалентный характер, а проще сказать — просто неопределенный, поскольку вопрос отношения к прошлому и серьезного его обсуждения так и остался неясным, не в последнюю очередь потому, что президент, де-юре являющийся определителем и главным арбитром исторической политики во Франции, предпочитает ориентироваться на интересы различных групп гражданского общества, которых, в свою очередь, больше интересуют актуальные вызовы современности.
В целом общая историческая политика стран Европы нацелена на поиск интеграционных моментов в истории европейских государств в целях создания общеевропейского дома, а не на поиск виноватых или осмысление ошибок прошлого. Однако история государств-наций или отдельные вызовы современности могут повернуть эту политику вспять, внеся дезинтеграционный момент в кажущуюся идеальной модель.
В целом общая историческая политика стран Европы нацелена на поиск интеграционных моментов в истории европейских государств в целях создания общеевропейского дома, а не на поиск виноватых или осмысление ошибок прошлого. Однако история государств-наций или отдельные вызовы современности могут повернуть эту политику вспять, внеся дезинтеграционный момент в кажущуюся идеальной модель.
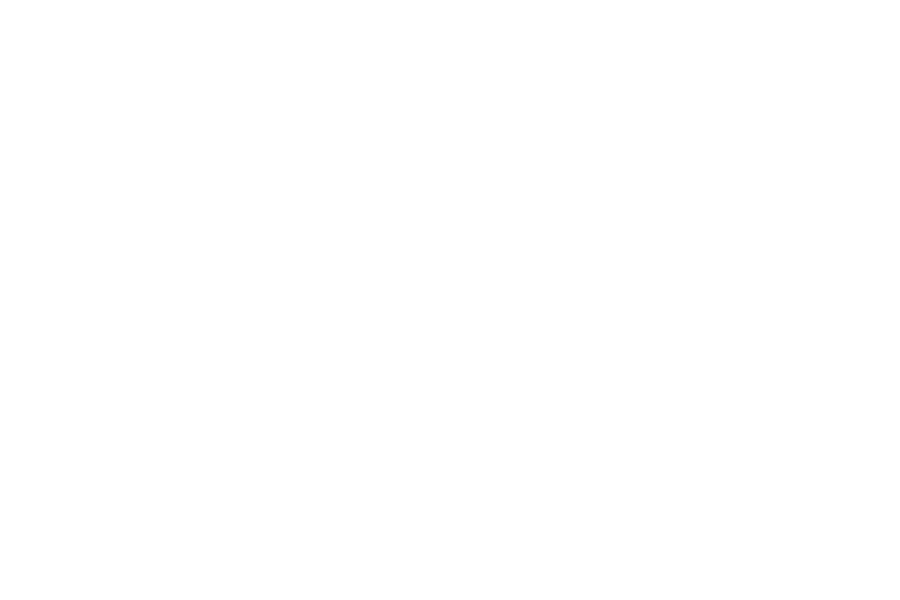
Мустафа Кемаль
В этом свете весьма интересной выглядит историческая политика современной Турции, которая, исходя из юридического нейтралитета этой страны во время Второй мировой войны, основывается на символе более ранней истории, а именно фигуре Ататюрка, Мустафы Кемаля. Эта историческая политика носила вполне однородный характер начиная со времени смерти Кемаля в 1938 году вплоть до начала 2000-х. Тогда к власти пришла Партия справедливости и развития, которая, опираясь на свою частично исламскую ориентацию, проводит политику более сдержанного отношения к ревизионистским трактовкам истории в противовес кемализму — собственно [трактовкам] исламской, социалистической, либеральной и курдской.
Тем не менее основной турецкий исторический нарратив остается неизменным: все достижения, победы и блага в современной Турции связываются с деятельностью и продолжением дела Мустафы Кемаля, за «неверное» освещение фигуры которого можно получить вполне реальный срок. Однако, как отмечает преподаватель университета Коч в Стамбуле Шенер Актюрк, «часто создается впечатление, что суть сказанного менее важна, нежели политическая позиция говорящего и высказываемое им оценочное суждение». Он приводит в пример автора из марксистско-маоистской интеллигенции, который определил Ататюрка как агностика и атеиста, что в левых кругах формировало положительный образ последнего. Если бы автор принадлежал к исламистским или консервативным кругам, то его в таком случае с большой вероятностью ожидало бы судебное разбирательство. Надо сказать, что в сегодняшнем положении Турция в своей исторической политике продолжает держаться фигуры Кемаля, что позволяет ей забыть о безусловно травматичном крушении Османской империи и, например, вопросе о предполагаемом геноциде армян, ориентируясь на достижения, а не на неудачи и спорные вопросы собственной истории.
Тем не менее основной турецкий исторический нарратив остается неизменным: все достижения, победы и блага в современной Турции связываются с деятельностью и продолжением дела Мустафы Кемаля, за «неверное» освещение фигуры которого можно получить вполне реальный срок. Однако, как отмечает преподаватель университета Коч в Стамбуле Шенер Актюрк, «часто создается впечатление, что суть сказанного менее важна, нежели политическая позиция говорящего и высказываемое им оценочное суждение». Он приводит в пример автора из марксистско-маоистской интеллигенции, который определил Ататюрка как агностика и атеиста, что в левых кругах формировало положительный образ последнего. Если бы автор принадлежал к исламистским или консервативным кругам, то его в таком случае с большой вероятностью ожидало бы судебное разбирательство. Надо сказать, что в сегодняшнем положении Турция в своей исторической политике продолжает держаться фигуры Кемаля, что позволяет ей забыть о безусловно травматичном крушении Османской империи и, например, вопросе о предполагаемом геноциде армян, ориентируясь на достижения, а не на неудачи и спорные вопросы собственной истории.
Женщины-солдаты Китайской национальной армии во время Второй японо-китайской войны, 1938 год; «женщины для утех», угнанные из Кореи.
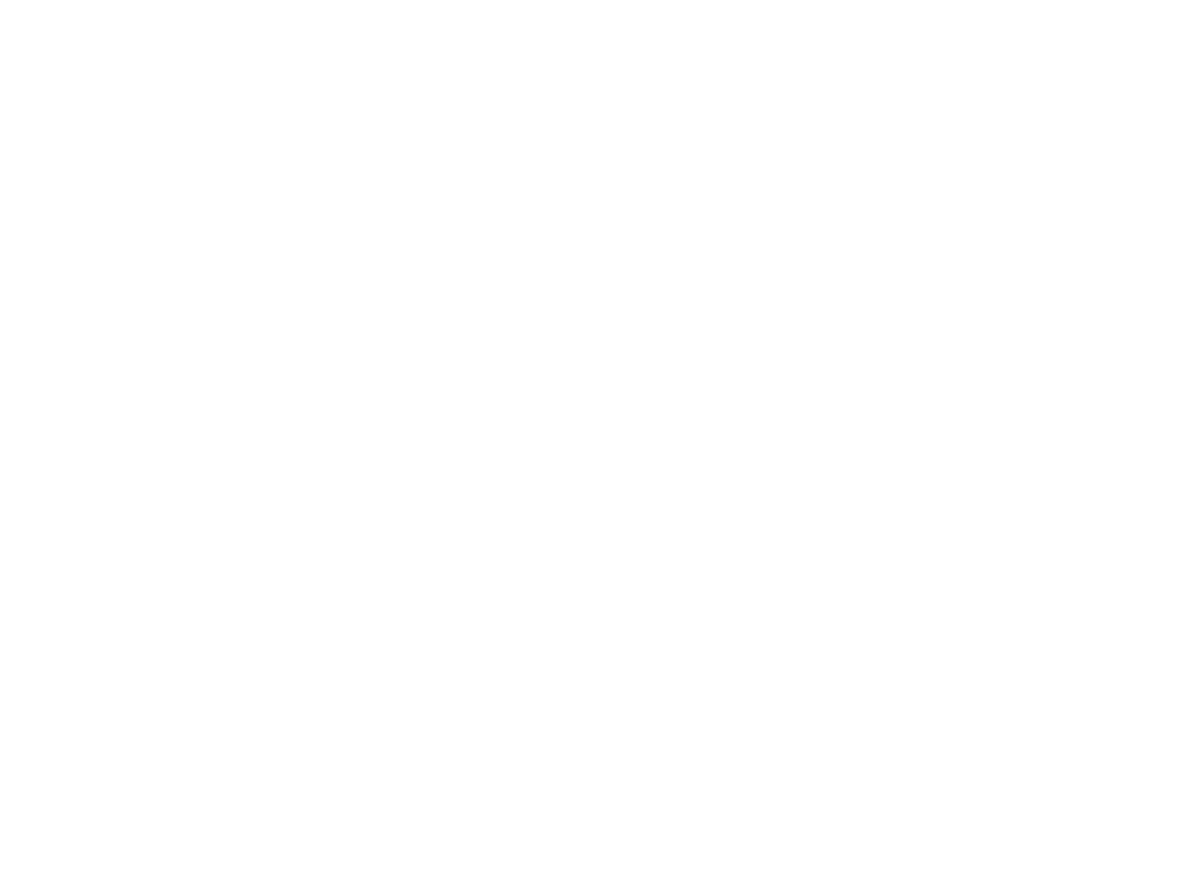
Японская армия во время Второй японо-китайской войны
Еще одним регионом, о котором следует упомянуть в контексте исторической политики и политики памяти, является азиатский, а именно его главные представители — Япония и Китай. В первой наблюдается некоторый разрыв между исторической политикой и политикой памяти вообще. Многие консервативные круги политического истеблишмента склонны умалчивать и переформулировать такие этапы японской истории, как геноцид населения Китая в середине XX века и, например, использование части женского населения Корейского полуострова (в том числе несовершеннолетнего) в качестве так называемых женщин для утех в специальных борделях, предназначенных для бойцов японской армии. Это связано в том числе с относительно недавней датой смерти императора Хирохито в 1989 году, которого на начальном этапе послевоенной истории американские оккупационные силы старались склонить скорее к проведению демократических реформ, а не последовательному покаянию и работе над ошибками прошлого. Тем не менее, как показывают опросы общественного мнения, население Японии по большей части склонно одобрить политику именно национального покаяния, а не агрессивно-отрицательную историческую политику японского истеблишмента. Это не в последнюю очередь связано с экономическими достижениями государства, для которого такая политика служит неприятным отвлекающим фактором. Историческая политика Китая носит, в отличие от Японии, достаточно ровный характер, который определяет так называемый «реформаторский консенсус», говоря словами отечественных авторов Ольги Борох и Александра Ломанова. Этот консенсус, с небольшими поправками в ту или иную сторону, нацелен на признание заслуг современного Китая в деле продвижения экономики и роста репутации КНР в современном глобальном политическом поле. История в целом более всего сосредоточена на борьбе китайского народа за место под солнцем начиная с иностранной интервенции конца XIX века и заканчивая современным периодом мягких реформ, идущих с конца 80-х годов. Такая политика вполне сообразуется с глобальными целями и задачами современного Китая.
Отдельные «удобные» страницы истории используются в процессе конструирования, поддержания и воспроизводства национальной или этнической идентичности
История как отдельная наука начиная с первой половины XIX века существует, по словам Алексея Миллера, «как часть предприятия по строительству наций и во многом такой остается». Если говорить о современной исторической науке, то налицо тенденция к обелению отдельных страниц (в первую очередь недавнего прошлого) и конструированию «славного» его варианта. То есть историческая политика проводится с помощью как минимум провластных историков и публицистов. В вышеупомянутых странах есть четкое стремление выделить отдельные «удобные» страницы истории того или иного государства и использовать их в процессе конструирования, поддержания и воспроизводства национальной или этнической идентичности. Характерные элементы для каждой из стран одинаковы: это события, личности, «места памяти» (термин, придуманный французским ученым Пьером Нора для обозначения мест, трактуемых как символы национальной идентичности) и отдельные символы, заимствованные из национальной культуры. Будь то лидер национально-освободительного движения, место грандиозной баталии, удачный дипломатический ход или революционная песня — любой такой фактор служит для оправдания деятельности власти и наиболее комфортного ее функционирования.
Историческая политика оказывает давление на политику памяти в целом, которая, как в случае с Японией, часто происходит из коллективного порыва нации, артикулированного в заявлениях и действиях доминирующих референтных групп. И даже если эти группы склонны к налаживанию диалога с такими же группами другой нации и формированию общей, консенсусной политики памяти, историческая политика будет отдалена от этой желаемой линии поведения, если последняя будет идти вразрез с целями и задачами правящей элиты. Исходя из этого, довольно сложно представить, что историческая политика в России сможет служить подспорьем в общей демократизации и плюрализации коллективного сознания нации.
В этом смысле такая политика если и может явиться краткосрочным сдерживателем дезинтеграционных угроз (которые сейчас присутствуют в российском коллективном сознании), но, к сожалению, не способна явиться связующим звеном для этого сознания в более долгосрочной перспективе. Это и есть та проблема, с которой придется столкнуться исторической науке в ее противостоянии с исторической политикой в самое ближайшее время, поскольку советская история перестает быть предшествующим историческим периодом, уступая место периоду становления демократии 90-х и все менее отождествляясь с понятием «современная история». Таким образом, советская идентичность становится все менее актуальной, что формирует новые вызовы исторической политике и политике памяти.
Историческая политика оказывает давление на политику памяти в целом, которая, как в случае с Японией, часто происходит из коллективного порыва нации, артикулированного в заявлениях и действиях доминирующих референтных групп. И даже если эти группы склонны к налаживанию диалога с такими же группами другой нации и формированию общей, консенсусной политики памяти, историческая политика будет отдалена от этой желаемой линии поведения, если последняя будет идти вразрез с целями и задачами правящей элиты. Исходя из этого, довольно сложно представить, что историческая политика в России сможет служить подспорьем в общей демократизации и плюрализации коллективного сознания нации.
В этом смысле такая политика если и может явиться краткосрочным сдерживателем дезинтеграционных угроз (которые сейчас присутствуют в российском коллективном сознании), но, к сожалению, не способна явиться связующим звеном для этого сознания в более долгосрочной перспективе. Это и есть та проблема, с которой придется столкнуться исторической науке в ее противостоянии с исторической политикой в самое ближайшее время, поскольку советская история перестает быть предшествующим историческим периодом, уступая место периоду становления демократии 90-х и все менее отождествляясь с понятием «современная история». Таким образом, советская идентичность становится все менее актуальной, что формирует новые вызовы исторической политике и политике памяти.