Текст: Екатерина Алеева
Фотографии: Иван Анисимов
Фотографии: Иван Анисимов
«Часто нам надо не научиться новому, а избавиться от ненужного»
Философ и редактор V-A-C Карен Саркисов:
Герои рубрики «Самообразование» рассказывают, чему они учились и учатся сейчас. В новом выпуске старший редактор и куратор фонда V-A-C Карен Саркисов — о том, как школа парализует любознательность, чему учат на философском факультете и почему, чтобы оправдать свою лень, нужно много работать.
Фонд V-A-C занимается развитием и поддержкой российского современного искусства через выставки, образовательные и издательские проекты. 26 апреля вместе с ММОМА фонд открывает выставку-спектакль «Генеральная репетиция».
Я учился в самой обыкновенной типовой школе в Перове, планировка которой точно соответствует школе в фильме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», поэтому он всегда вызывал у меня легкую оторопь и содрогание. Честно говоря, старшая школа была для меня, наверное, худшими годами в жизни. В ней был сделан упор не столько на педагогическую сторону, сколько на дисциплинарную. Я же всегда не очень понимал статусы и авторитеты, плохо их считывал и считал
учителей за равных, но это не работало. В 11-м классе я оказался в жесткой конфронтации с классной руководительницей, и меня даже хотели выгнать, причем я никогда не был оголтелым хулиганом или проблемным ребенком, учился средне. Началось все с глупого эпизода: я, кажется, отказался дежурить в классе, потому что нужно было ехать на подготовительные курсы в университет — у меня тогда были свои приоритеты. К тому моменту накопилась уже критическая масса неудовлетворения мной, поэтому случился конфликт. Был педсовет с участием директора, где решался вопрос о моем выдворении из школы. В итоге меня оставили, потому что подумали, что жизнь моя и без того пошла по косой траектории и ничего хорошего со мной уже не будет.
Понятно, что к организованному институционализированному образованию я уже в школе стал относиться плохо. Школа была для меня тем, что подавляет любые зачатки самостоятельного мышления, парализует любознательность и препятствует дерзновению духа. Мне казалось, так везде. У меня не было особенных талантов, но была смутная гуманитарная ориентация, поэтому в 11-м классе я решил идти на философский факультет Московского университета. Во многом поступление на него было шагом в неизвестность, потому что я плохо представлял себе, что это такое. У Кьеркегора есть такой термин — «прыжок веры»: он не учитывает рациональных доводов и даже примиряет противоречия. Так и было в моем случае.
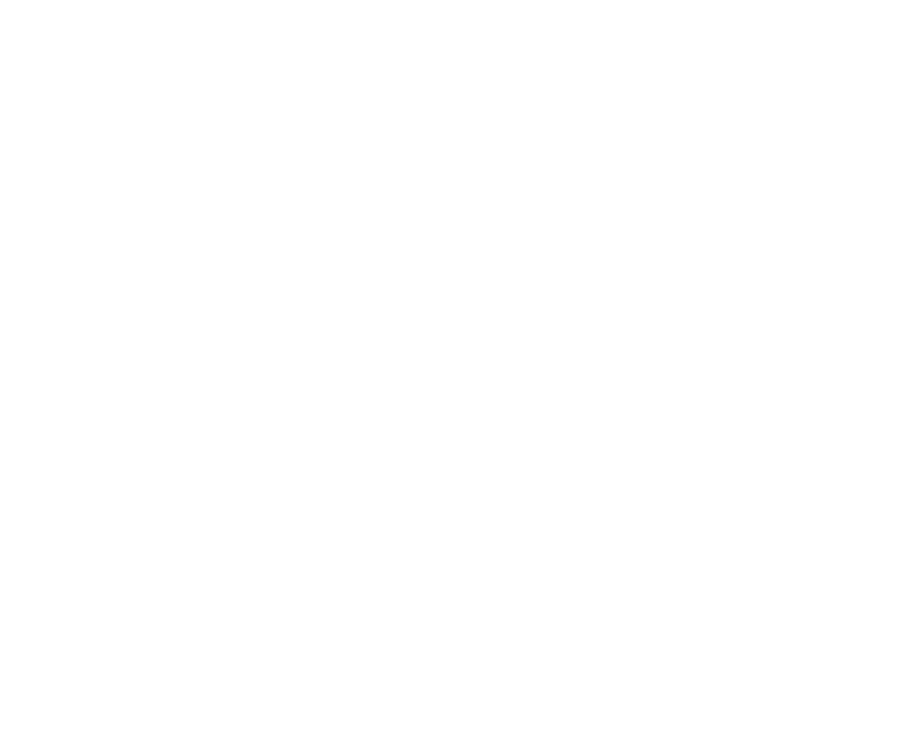
На тот момент важным цивилизующим хабом в моем районе было книжное кафе «ПирОГИ». Там мы прогуливали школу, просиживали часами. У меня был достаточно тесный круг друзей с взыскательными интеллектуальными запросами, мы рано начали читать философию и модернистскую литературу, такой стандартный подростковый набор: Ницше, Фрейд, Сартр. Позже ходили на поэтические вечера, выпивали в «Билингве». Конечно, это был удивительный контраст с нашей школой. Нельзя сказать, что она была очень плохой, но я часто слышу, что у людей бывают теплые воспоминания об учителях, которые их вскармливали и с младых ногтей культивировали любовь к прекрасному, — всегда отношусь к этому с легкой долей недоверия и подозрения, потому что у меня такого опыта не было.
На философском факультете я понял, что образование может быть интересным. Оно не обязательно сопряжено с дисциплинарными санкциями, хотя, конечно, в университете они были, но не ощущались так остро. Я получил такой глоток свободы, а это была середины нулевых, когда вокруг все казалось хорошим и вольготным. Вообще, сам философский факультет не столько учит чему-то конкретному, сколько дает некий ящик с инструментами или компас, что позволяет в дальнейшем осуществлять навигацию по достаточно обширному полю знаний. Появляется такая эпистемологическая гигиена: что можно, что нужно читать, какие источники действительно авторитетные, какие авторы адекватные, а какие нет. Отчасти благодаря университетскому образованию, которое все-таки достаточно фундаментально, я не могу назвать себя автодидактом, то есть самообразование, конечно, присутствует, но многое было от факультета.
В университете большую роль играет среда: ты попадаешь в разношерстную, местами фриковую компанию и стараешься не отставать. На первых курсах у меня возник интерес к современному искусству, но опять же не столько из-за учебы, сколько из-за людей, в чью орбиту я попал. Я помню Вторую биеннале в Москве, во время которой проходила прекрасная конференция, куда приехали звезды европейской философии, например Джорждо Агамбен. Тогда же открылся «Винзавод» с громкой выставкой «Верю»; по ощущениям, начался какой-то подъем. Современное искусство практически не существует в отрыве от теории — сложно представить его без континентальной философии, без гендерных или постколониальных исследований. Все это сейчас прочно встроено в ДНК искусства.
Все это соотносилось и с моей специализацией: я учился на кафедре истории зарубежной философии и занимался современной французской мыслью, а именно Аленом Бадью. В 2006 году это еще было достаточно ново: он только становился известным в России, но уже имел широкую англосаксонскую славу за пределами Франции.
Я хотел заниматься актуальной философией, которая происходит прямо сейчас, и при этом французской, потому что учил язык. Я начал еще в школе с помощью тети, преподавателя французского языка, в университете взялся за него снова, а позже ходил во Французский университетский колледж при МГУ. Я был вынужден довести его до необходимого уровня, поскольку без него не мог написать ни одну курсовую. На русском было мизерное количество источников, большинство нужных текстов вообще не публиковались у нас. Так что язык я в основном выучил с помощью чтения. На философском факультете французский язык преподавался как средство профессиональной коммуникации, поэтому я знал слова «бытие», «субстанция», «сознание», но мог не знать, как сказать «подушка» или «ухо». Когда я понял, что есть французский помимо пыльных фолиантов, я начал добирать лексику самостоятельно. Читал художественную литературу — помню, меня тогда увлекла Юлия Кристева. Она интересовала меня как фигура французской феминистской теории и психоанализа, но выяснилось, что параллельно она писала детективы. В книге «Одержимость», например, расследовалось убийство, где женщине отрубили голову. Кино мне тогда было сложно воспринимать на слух, но я смотрел, как положено, режиссеров «новой волны».
Устный язык я всегда подтягивал в разговорах с носителями. Я говорю свободно на французском и английском, а на немецком пока не очень получается. Существуют прекрасные сайты, которые позволяют искать людей, жаждущих учить русский. Можно с ними встречаться и общаться по системе «полчаса один язык, еще полчаса — другой». Мне кажется, разговорный язык вообще невозможно развить иначе, чем через адресное общение. Английский я так и выучил практически полностью самостоятельно: брал учебник с заданиями Мерфи, читал газеты, старался больше общаться. Многие слова можно понять только контекстуально; если будешь просто переводить, то смысл теряется. Еще я совершенствовался с помощью телевидения: например, ежедневно смотрел шоу Стивена Колбера еще до того, как он заменил Дэвида Леттермана на CBS. Конечно, смотрел фильмы в оригинале, но это такой скучный совет. Моя медийная диета до сих пор на 80% состоит из иноязычных источников.
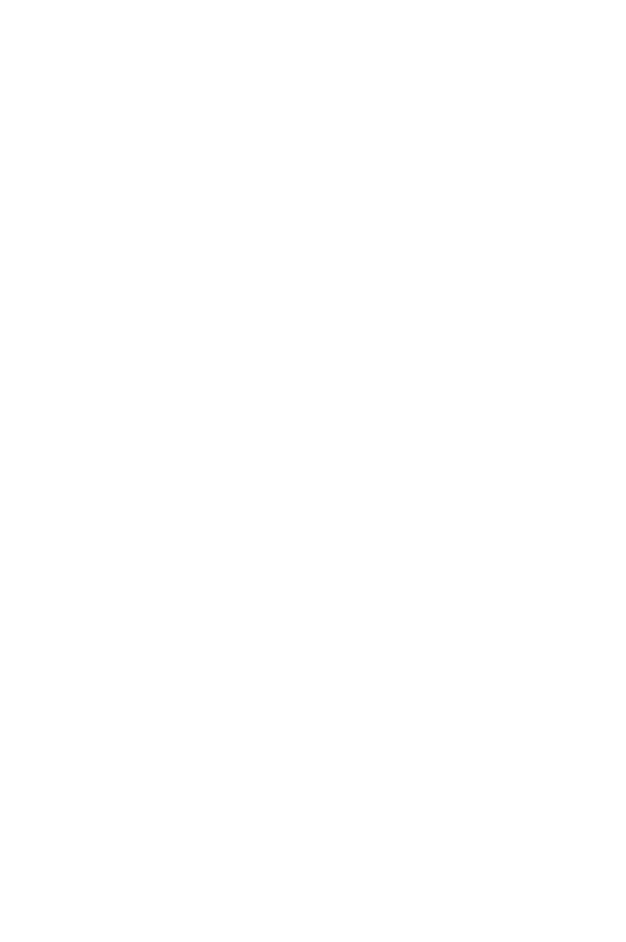
Если говорить о самообразовании, то для меня важнее «разучиваться» — если так можно перевести новомодное понятие unlearning. Часто нам надо не научиться новому, а избавиться от ненужного балласта: у кого-то это могут быть дурные привычки, но в более широком смысле речь о том, чтобы уходить от жестких установок мышления. Ты меняешь перспективу, оптику, начинаешь смотреть на ситуацию с других сторон — то, что русские формалисты называли остранением. Я не очень верю в человеческую природу и какие-то естественные склонности. Например, мой интерес к современному искусству — это скорее всплеск спонтанного любопытства, который перерос в нечто большее. Смена установки как раз позволяет уйти от того, что естественно, привычно, знакомо. Например, у Пьера Байяра есть книга «Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали», где он проводит интересную мысль, что абсолютно непрочитанных книг нет. Вы не можете сказать, что не читали Пруста, если вся современная культура им пропитана, его идеи настолько ее насытили, что он находится в вашем прожиточном минимуме образованного человека. Эти идеи вас во многом сформировали. Но нет и абсолютно прочитанных книг — вы же не храните в голове каждую страницу, как фотографию. Меня очень порадовала такая идея, потому что она раскрепощает, говорит, что ты знаешь больше, что твой горизонт изначально шире.
Мы сейчас готовим к публикации книгу французского философа Катрин Малабу, посвященную понятию пластичности в нейронауках и науках социальных. В ней написано, что в процессе развития очень важную роль играет клеточная смерть, апоптоз, а в процессе обучения — подавление нервных импульсов: какие-то нейронные цепочки стабилизируются, а какие-то распадаются. И этот процесс распада также жизненно важен. Например, если вы обучаетесь игре на фортепиано, вам нужно не только осваивать, как правильно играть, но и забывать ошибочные движения. Мне понравилось, что идея «отучивания» встроена в нас даже на самом базовом, физиологическом уровне.
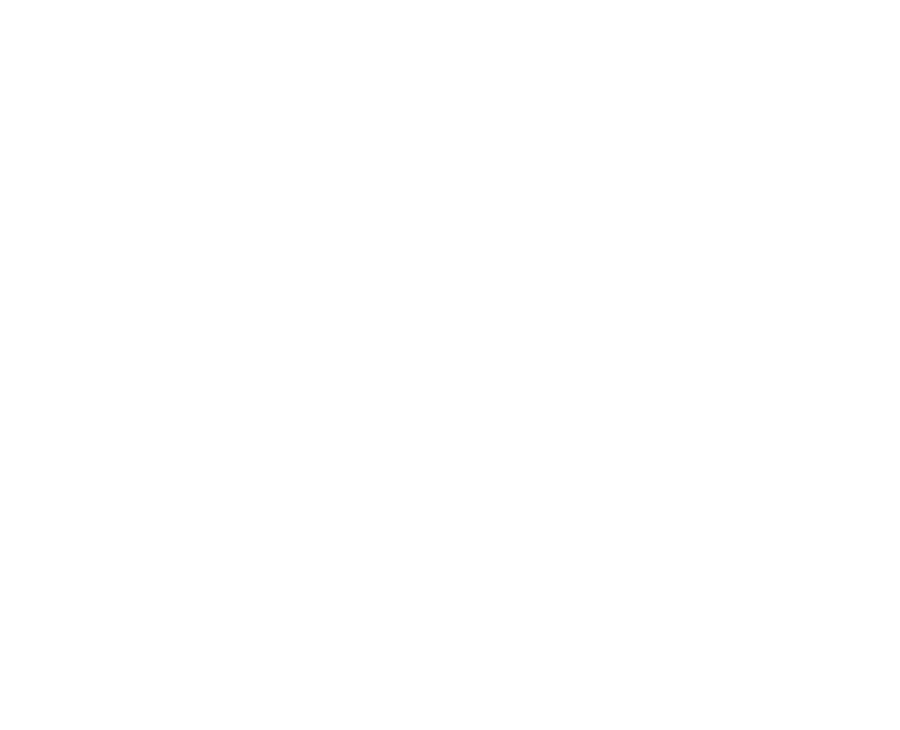
На самом деле я читаю большую часть времени. Это не всегда бывает осмысленное и нужное чтение, но в целом у меня текстовое отношение к миру, я многие вещи воспринимаю в виде набора знаков. Мне даже сложно сказать, сколько книг я прочитал, потому что я читаю и для удовольствия, и по работе. Из-за моей «окулоцентричной» практики, из-за того, что я постоянно вожу глазами, я чувствую, что хуже воспринимаю информацию на слух. Поэтому стараюсь дополнять ее подкастами. Они позволяют не только узнавать новое, но и развивают языки. Я слушаю программу о философии, которая выходит на радио France Culture, подкаст журнала The New Yorker, иногда слушаю повествовательные подкасты, построенные как сериалы, например известный Serial. Я ценю поп-культуру и люблю, когда ее цитируют, обыгрывают, травестируют, поэтому уже несколько лет преданно смотрю шоу RuPaul's Drag Race. Это шоу талантов, в котором выступают дрэг-королевы, а после каждого выпуска кто-то один выбывает. Кстати, если говорить не столько о самообразовании, сколько о бесполезных сведениях, очень часто из него я узнаю слова и выражения, которые носят очень нишевый характер и в ходу только в этой среде.
По работе мне часто приходится переводить. Если говорить про профессиональное развитие, то когда-то меня вдохновил очерк Вальтера Беньямина «Задача переводчика», хотя я могу рекомендовать и классические книги — Корнея Чуковского («Высокое искусство»), Нору Галь («Слово живое и мертвое»), Лидию Чуковскую («В лаборатории редактора»). В эссе Беньямина есть такая метафора, опять же очень раскрепощающая: перевод — это попытка дать возможность в своем языке проявиться чистому языку, языку как таковому, снять с него чары чужого языка, а не тупо дать аналог переводимого оригинала. Школа советского художественного перевода всегда пыталась на почве русского языка воссоздавать оригинал, а Беньямин пишет, что нужно расширить возможности своего языка под воздействием иностранного.
На самом деле я очень ленивый человек. Я занимаюсь чем-то только тогда, когда это нужно для дела или меня об этом просят. Даже книги, которые я читаю, часто помогают мне оправдать свою лень, как тот же Пьер Байяр. Как ни парадоксально, чтобы обосновать нежелание что-то делать, нужно потратить достаточно много сил и времени, чтобы это выглядело убедительно, а не звучало отмазкой. Нужно много работать, чтобы сформулировать лень как некое кредо.
Если бы у меня было много свободного времени, я бы, безусловно, доучил немецкий язык до хорошего уровня. Еще я когда-то играл на флейте и кларнете, но ненавидел заниматься музыкой, поэтому бросил. Мои старшие сестры играли на скрипке и фортепиано, меня же родители по остаточному принципу отдали в музыкальную школу на духовые инструменты, которые я терпеть не мог. Возможно, если бы не это, я бы мечтал научиться игре на фортепиано. Но, честно говоря, я бы хотел сводить и продюсировать музыку. Музыка для меня во многом важнее, чем искусство. Я верю не столько в образование, сколько в воспитание чувств, или скорее чувствительности, в то, что называется sensibility – когда вкус имеет связность, внутреннюю логику, но еще не оформился в рациональную систему. Для меня в ней может быть связано популярное и элитарное, не смешиваясь, а сосуществуя. В моей музыкальной чувствительности всегда найдется место для Cardi B.
У меня порядка пятисот подписок в SoundCloud — в основном миксы, экспериментальные продюсеры. Некоторые из них участвовали в проекте V-A-C «Опыты нечеловеческого гостеприимства», где я был одним из кураторов. С одной стороны, их музыка связана с технологическим футуризмом: абразивная, денатурализованная, идущая в нарушение всех гармоний, а с другой стороны — нагруженная большим количеством нарративов. Именно такую я бы и хотел делать. Наверное, это самое интересное, что происходило с электронной сценой за последние годы. На мой взгляд, музыка лучше, чем все остальное, говорит на языке современности. Она позволяет сделать слепок существующего момента, snapshot, поэтому для меня она самый лучший способ общения с действительностью. В этом смысле я прямо как Шопенгауэр, он тоже музыку ценил именно за это.
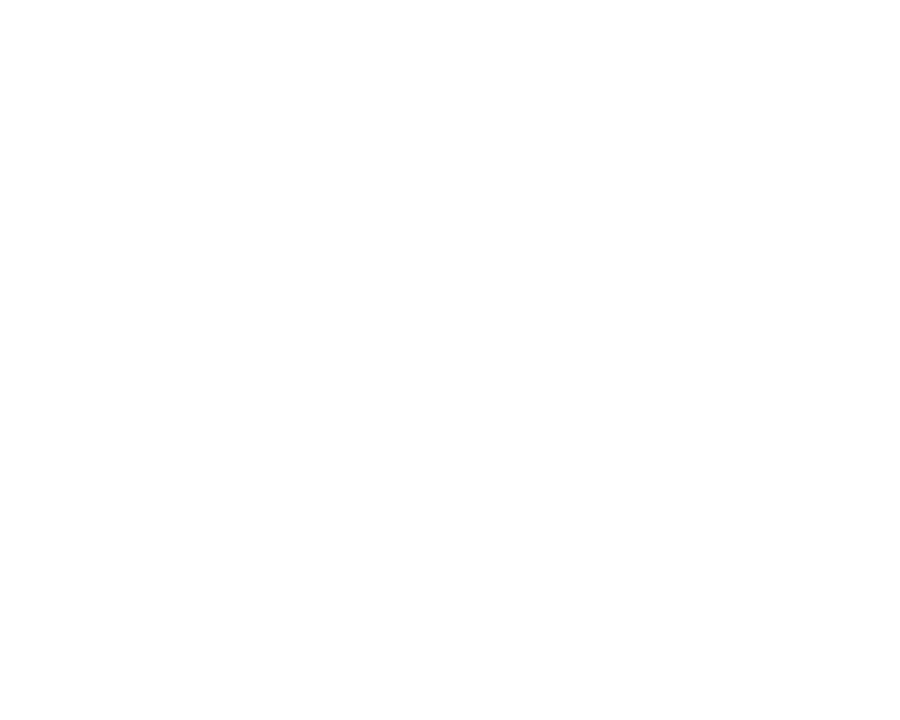
Выбор Карена Саркисова
Кеннет Голдсмит — единственный поэт, чьи заслуги отметил нью-йоркский музей MoMA. Он говорит о том, что время в интернете, потраченное впустую, на самом деле таковым не является. Ваша история в браузере, например, становится новой формой мемуаров. В поисковые строчки вбивается столько текста, что из этого можно составить целую летопись. Сюрреалисты практиковали автоматическое письмо в надежде, что в итоге сознание отпустит бразды и подсознание будет свободно диктовать, что писать. Запросы в браузере, можно сказать, тоже вид такого письма. Любопытно, как то, чему ты не придаешь значения, наделяется определенной ценностью.
Марк Фишер, которого, увы, не стало в прошлом году, был теоретиком культуры и редактором с превосходным чутьем на перспективных авторов. Он больше всего известен своим полемическим бестселлером «Капиталистический реализм». «Призраки моей жизни» — для меня это прежде всего образец хорошо темперированной чувствительности и в то же время чистой, стройной и очень раздумчивой прозы. Его рассуждения о поп-культуре, ностальгии по ненаступившему будущему, «приватизации» депрессии и вытеснении ее социальных корней существуют где-то на стыке между предельно личными заметками и общезначимым комментарием о текущей кризисной политической ситуации.
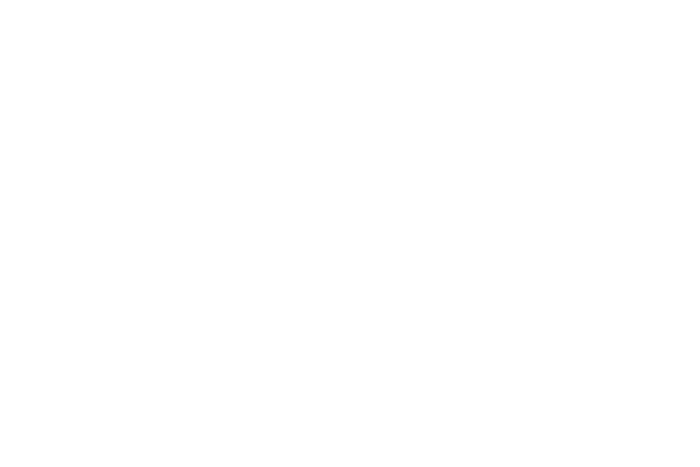
Его ведут две девушки из Бруклина, американки русского происхождения Анна и Даша. Сейчас уровень паранойи в отношении всего русского в США зашкаливает, в этом ирония названия подкаста. Они ведут непринужденные, но достаточно содержательные разговоры, например критикуют либеральный феминизм и неолиберальную культурную политику. Темы могут варьироваться от сексуальных штампов в фильме «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс до таргетирования рекламы в фейсбуке.
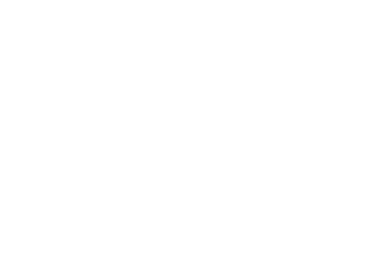
Слушаю в основном для языка, но не только. В этой передаче подкупает разброс обсуждаемых тем. К традиционному кругу персоналий и проблем типа «идея инаковости у Левинаса» там примыкают местами экзотические сюжеты, например «Пол Маккартни — философ конформизма», «Искусство быть идиотом», «Юбер де Живанши и элегантность». У них же удобно слушать суперкороткие рецензии на свежие книги.
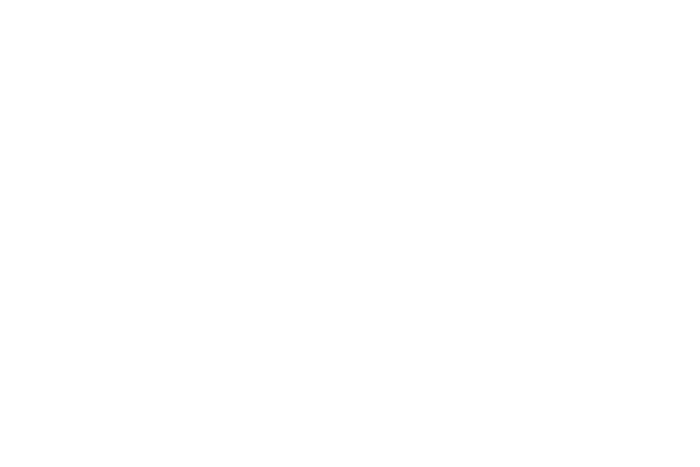
Слежу за журналом и стараюсь его регулярно читать. Больше всего нравятся блоки статей по какому-то конкретному вопросу. Из недавнего вспоминаются прекрасные подборки по исследованиям звука (в смысле sound studies), теории рабства и визуальности раннего Нового времени.
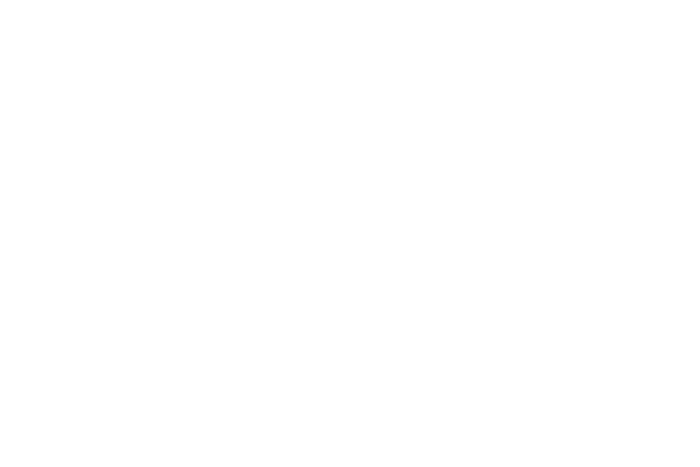
В прошлом году фонд V-A-C организовал в музее ММОМА проект «Опыты нечеловеческого гостеприимства». В нашей дискуссионной программе приняли участие спикеры с очень разным бэкграундом, от медиевистики до биоинженерии. Один из докладчиков мог говорить про способы, которыми мертвые побуждают живых к действию, другой — о проявлениях альтруизма в колониях бактерий, и все это пестрое разнообразие должно было складываться в последовательную критику антропоцентризма. Тогда получалось вникнуть далеко не во всё, поскольку много сил отнимали всякие организационные моменты, но сейчас с удовольствием пересматриваю эти лекции и возвращаюсь ко многим из высказанных там идей.
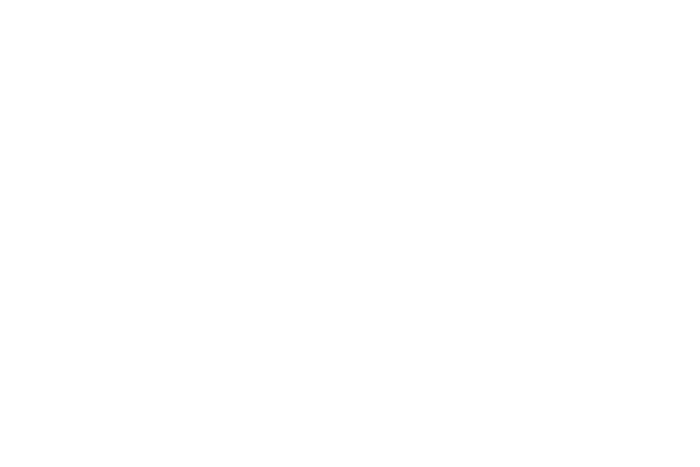
Я очень редко бываю в Санкт-Петербурге. Вместе с тем в Европейском университете проходят очень содержательные мероприятия и лекции, которые часто всплывают на их канале. Там, в частности, лежат записи выступлений с конференции о наследии Октябрьской революции. Конференция прошла в конце прошлого года и из всех «коммеморативных» событий, приуроченных к юбилею, была, пожалуй, самым осмысленным.
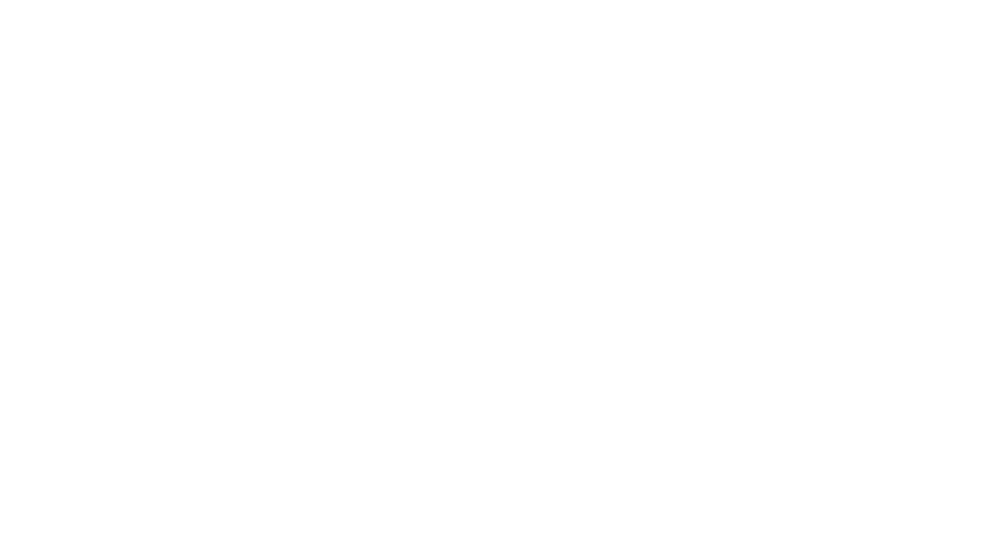
На этом сайте собраны тексты объемом 600 миллионов слов — от литературных до сообщений с форумов. Если интересно посмотреть узус слова, ты его вбиваешь и видишь, как оно менялось. Для лингвистов и переводчиков это очень удобная справочная система. Иногда кажется, что слово уже никто не использует, тогда можно проверить и по текстам посмотреть, как оно работает в языке.
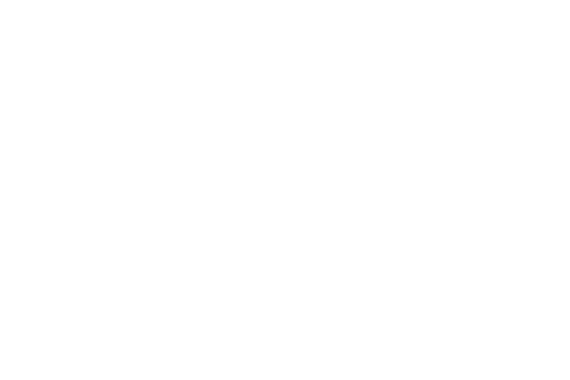
Музыковед Адам Харпер работает во многом как радар: он смотрит, что происходит в современной музыке, и обобщает это в тенденции. Они могут перетечь в мейнстрим, а могут и отмереть. Он, в частности, известен тем, что, осмыслив эстетику ряда артистов, дал название направлению Vaporwavе. Он абсолютно всеядный, и в каждой передаче у него получается дайджест новой музыки.
Другие выпуски «Самообразования»

