Смерть автора:
Ролан Барт о фотографиях в Elle и
феномене гула языка
Смерть автора:
Ролан Барт о фотографиях в Elle и
феномене гула языка
Текст: Сергей Сдобнов
Иллюстрации: Катя Успенская
Ролан Барт еще при жизни стал знаковым автором для критически настроенных интеллектуалов 1950–70-х, а сегодня его работы включены в списки обязательного чтения для студентов гуманитарных специальностей по всему миру. В любом тексте — от газетной колонки до главы в монографии — французский философ порывал с устоявшимися представлениями о том, как и о чем писать критические статьи. Для третьего выпуска рубрики «Культ личности» T&P выбрали тексты Ролана Барта — журналиста, философа и теоретика (пост)структурализма — о языке новых медиа, мифах буржуазного сознания и законах криминальной хроники.
«Орнаментальная кулинария»
В журнале «Элль» <...> почти каждую неделю печатается красивая цветная фотография какого-нибудь готового блюда: подрумяненная куропатка, нашпигованная вишнями, розоватое куриное заливное, креветки, запеченные в тесте и покрывающие его своими красными панцирями, шарлотка с кремом, украшенная узором из цукатов, разноцветные генуэзские пирожные и т. д. В подобной кулинарии основной субстанциальной категорией является сплошная пелена. Поверхность кушанья всячески стараются сделать зеркальной и округлой, прикрыв пищевой продукт гладкими отложениями соуса, крема, топленого жира или желе. <…> «Элль» — изысканный журнал, по крайней мере такова его легенда; его роль состоит в том, чтобы являть своей массовой, народной (о чем говорят данные опросов) читательской аудитории грезу о шикарной жизни; отсюда и берет происхождение его кулинария покрытий и алиби, постоянно стремящаяся затушевать или даже вовсе преобразить исходное пищевое сырье — грубую телесность мяса или резкие формы рачков. Блюда крестьянской кухни допускаются здесь лишь в порядке исключения (старая добрая семейная похлебка), как прихоть пресыщенных горожан, играющих в деревенский быт. Но еще важнее, что гладким покрытием подготавливается и поддерживается одно из главных качеств изысканной кухни — орнаментальность. Гладкая лессировка из «Элль» создает фон для буйной фантазии украшательства: тут и резные прожилки грибов, и пунктиры вишен, и ажурные лимонные дольки <…> — а исчезающее под ними покрытие (которое я оттого и назвал «обложениями», что сам продукт — это некие подземные залежи) становится как бы страницей, на которой читается вся эта кулинария в стиле рококо (излюбленный цвет — розоватый).
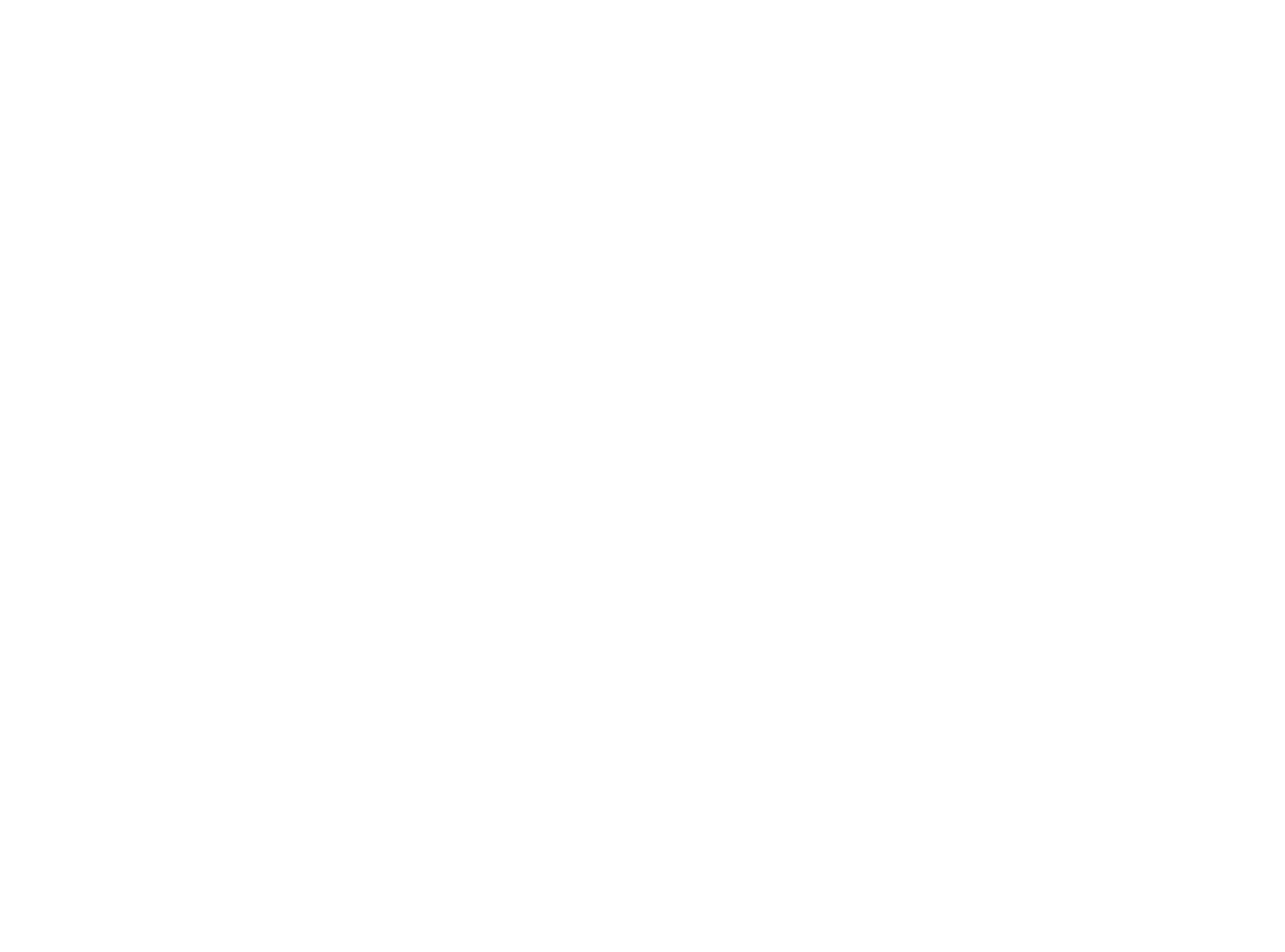
Орнаментализация идет двумя противоположными путями. <…> С одной стороны, это стремление уйти от природы в область бредово-прихотливой фантазии (нашпиговать лимон креветками, сделать цыпленка розовым <…>), а с другой стороны — попытки вернуться к природе с помощью грубых подделок (покрыть рождественский торт грибами из безе <…>, залить креветки белым соусом так, чтобы выступали одни головы). <…> То же стремление прослеживается и в изготовлении мелкобуржуазных безделушек (пепельницы в форме конского седла, зажигалки в форме сигарет, глиняные чашки в форме зайцев). Дело в том, что здесь, как и вообще в мелкобуржуазном искусстве, неистребимой тяге к жизненной правде противостоит — или же уравновешивает ее — один из всегдашних императивов прессы для домашнего чтения: то, что в «Экспрессе» громко называют иметь свои идеи. <…> Просто здесь творческая изобретательность заключена в рамки феерической действительности и распространяется лишь на гарнир, так как изысканность журнала не позволяет ему касаться реальных проблем питания (а реальная проблема не в том, как нашпиговать куропатку вишнями, а в том, как раздобыть самое куропатку, то есть денег на нее).
Действительно, в основе подобной орнаментальной кулинарии лежит сугубо мифическая экономика. Это откровенная кухня-мечта, что и подтверждается журнальными фотографиями, где блюдо обязательно снято сверху как предмет и близкий и недоступный, который фактически можно потребить разве что вприглядку. Это в полном смысле слова казовые блюда, всецело магические по природе, особенно если вспомнить, что среди читателей журнала много людей с невысокими доходами. <…>
Действительно, в основе подобной орнаментальной кулинарии лежит сугубо мифическая экономика. Это откровенная кухня-мечта, что и подтверждается журнальными фотографиями, где блюдо обязательно снято сверху как предмет и близкий и недоступный, который фактически можно потребить разве что вприглядку. Это в полном смысле слова казовые блюда, всецело магические по природе, особенно если вспомнить, что среди читателей журнала много людей с невысокими доходами. <…>
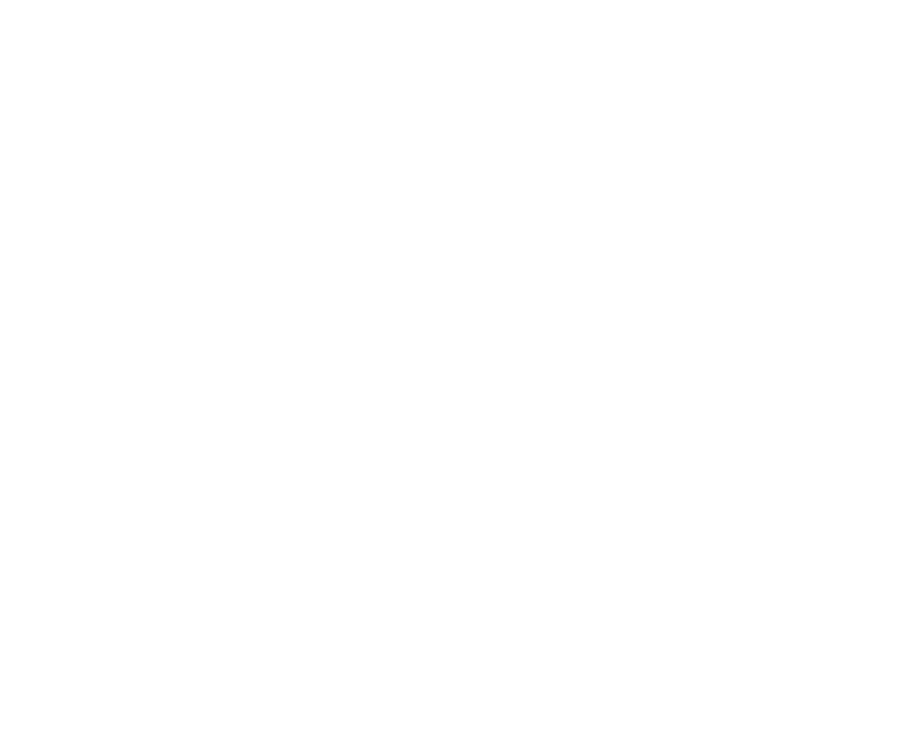
В книге Женевьевы Серро о Брехте упоминается фотография из «Матча», изображающая сцену казни гватемальских коммунистов; автор справедливо указывает, что фотография сама по себе вовсе не страшна, а ужас возникает оттого, что мы смотрим на нее из нашей свободной жизни. Замечание Женевьевы Серро парадоксально подтверждается выставкой «Фото-шоки» в галерее Орсе. Из экспонатов выставки лишь немногие нас действительно шокируют — чтобы мы испытали ужас, фотографу мало обозначить его. Большинство снимков, собранных здесь с целью неприятно поразить нас, не производят никакого впечатления — именно потому, что фотограф в оформлении своего сюжета слишком многое взял на себя, подменив нас, зрителей. Ужасное здесь почти всякий раз сверхвыстроено — к непосредственному факту игрой контрастов и сближений присоединяется умышленный язык ужаса. На одном из снимков, к примеру, изображена толпа солдат рядом с россыпью мертвых черепов; на другом молодой военный стоит лицом к лицу со скелетом; на третьем колонна заключенных или же пленных встречается на дороге со стадом баранов. Ни один из этих слишком искусных снимков нас не задевает. По отношению к каждому из них мы лишены возможности самостоятельного суждения: за нас уже содрогался, уже размышлял, уже судил кто-то другой. Фотограф оставил нам лишь одну возможность — чисто умственное согласие; с этими образами нас связывает лишь технический интерес; сверхнасыщенные значением по воле самого художника, они не обладают для нас никакой историей, эта синтетическая пища уже вполне разжевана своим создателем, и мы больше не можем сами изобретать свой подход к ней.
Другие фотографы делают своей целью не столько шок, сколько изумление, но допускают тот же самый исходный просчет. Они стараются, например, уловить, с немалым техническим мастерством, крайне редкий момент какого-нибудь движения: футболист в горизонтальном полете, прыжок гимнастки или летающие по воздуху предметы в доме с привидениями. Но и здесь, при всей своей непосредственности и неразложимости на контрастные элементы, картина остается слишком сконструированной; запечатлеть уникальный миг становится слишком преднамеренной самоцелью, навязчивым стремлением к знаковости, и даже удачные снимки такого рода не имеют для нас никакого эффекта; мы испытываем к ним интерес лишь на краткий миг непосредственного восприятия, дальше в нас уже ничто не откликается, не приходит в смятение, фотография не вызывает в нас никакой дезорганизации.
Ту же самую проблему уникальной, вершинной точки движения уже приходилось решать живописцам, но они здесь преуспели гораздо больше. Например, у художников Империи, когда им требуется воссоздать мгновенный образ (взвившийся на дыбы конь, Наполеон с простертою рукой на поле сражения и т. п.), в таком движении все же остается знак подчеркнутой неустойчивости — то, что можно назвать numen, торжественная застылость позы и притом невозможность поместить ее в реальном времени; такая демонстративная зафиксированность неуловимого — что в кино впоследствии будет названо фотогенией — как раз и есть исходная точка искусства. Легкое возмущение от этих непомерно вздыбленных коней или замершего в неуловимой позе императора, от их упрямой, можно сказать риторической экспрессивности вносит в наше прочтение знака элемент вызова и риска, производит в читателе зрительного образа не столько интеллектуальное, сколько визуальное изумление, именно потому, что заставляет обратить внимание на поверхность зримого объекта, на его оптическую непроницаемость, а не идти сразу к его значению.
Большинство показанных нам «фото-шоков» являются ложными как раз потому, что в них имеет место что-то среднее между буквальностью и преувеличенностью: для фотографии они слишком умышленны, для живописи — слишком точны, и в результате в них нет ни возмущающей буквальности, ни художественной правды; они задуманы как чистые знаки. <…> На всей выставке действительно шоковыми оказались лишь репортерские снимки, на которых схваченный на лету факт предстает во всей своей упрямой буквальности, тупой очевидности. Расстрел в Гватемале, плачущая невеста убитого в Сирии Адуана Малки, полицейский с занесенной дубинкой — все эти снимки удивляют тем, что на первый взгляд кажутся отстраненными, почти бесстрастными, они как бы содержат в себе меньше, чем подпись под ними; их зрелищность стерта. <…> Своей натуральностью, эти фотографии заставляют зрителя напряженно вдумываться, подталкивают его к самостоятельному суждению вне стесняющего присутствия демиурга-фотографа. Здесь происходит, таким образом, требуемый Брехтом критический катарсис. <…>
Ту же самую проблему уникальной, вершинной точки движения уже приходилось решать живописцам, но они здесь преуспели гораздо больше. Например, у художников Империи, когда им требуется воссоздать мгновенный образ (взвившийся на дыбы конь, Наполеон с простертою рукой на поле сражения и т. п.), в таком движении все же остается знак подчеркнутой неустойчивости — то, что можно назвать numen, торжественная застылость позы и притом невозможность поместить ее в реальном времени; такая демонстративная зафиксированность неуловимого — что в кино впоследствии будет названо фотогенией — как раз и есть исходная точка искусства. Легкое возмущение от этих непомерно вздыбленных коней или замершего в неуловимой позе императора, от их упрямой, можно сказать риторической экспрессивности вносит в наше прочтение знака элемент вызова и риска, производит в читателе зрительного образа не столько интеллектуальное, сколько визуальное изумление, именно потому, что заставляет обратить внимание на поверхность зримого объекта, на его оптическую непроницаемость, а не идти сразу к его значению.
Большинство показанных нам «фото-шоков» являются ложными как раз потому, что в них имеет место что-то среднее между буквальностью и преувеличенностью: для фотографии они слишком умышленны, для живописи — слишком точны, и в результате в них нет ни возмущающей буквальности, ни художественной правды; они задуманы как чистые знаки. <…> На всей выставке действительно шоковыми оказались лишь репортерские снимки, на которых схваченный на лету факт предстает во всей своей упрямой буквальности, тупой очевидности. Расстрел в Гватемале, плачущая невеста убитого в Сирии Адуана Малки, полицейский с занесенной дубинкой — все эти снимки удивляют тем, что на первый взгляд кажутся отстраненными, почти бесстрастными, они как бы содержат в себе меньше, чем подпись под ними; их зрелищность стерта. <…> Своей натуральностью, эти фотографии заставляют зрителя напряженно вдумываться, подталкивают его к самостоятельному суждению вне стесняющего присутствия демиурга-фотографа. Здесь происходит, таким образом, требуемый Брехтом критический катарсис. <…>
Устная речь необратима — такова ее судьба. Однажды сказанное уже не взять назад, не приращивая к нему нового; «поправить» странным образом значит здесь «прибавить». В своей речи я ничего не могу стереть, зачеркнуть, отменить — я могу только сказать «отменяю, зачеркиваю, исправляю», то есть продолжать говорить дальше. Столь причудливую отмену посредством добавки я буду называть «заиканием». <…> Невнятно переданное сообщение вдвойне несостоятельно: с одной стороны, его трудно понять, но, с другой стороны, при некотором усилии его все же понять можно; оно не находит себе места ни внутри языка, ни вне его — это языковой шум, сходный с чиханием мотора, которое говорит о неполадках в нем; именно такой смысл несет и осечка — звуковой сигнал сбоя, наметившегося в работе машины. Заикание (мотора или человека) — это как бы испуг: я боюсь, что движение остановится. <…> Машина вызывает страх тем, что работает сама собой, и доставляет наслаждение тем, что работает исправно. И подобно тому как неисправности речи дают в итоге особый звуковой сигнал — заикание, так и исправность машины дает о себе знать особой музыкой — гулом. <…> Гул — это шум исправной работы. Отсюда возникает парадокс: гул знаменует собой почти полное отсутствие шума, шум идеально совершенной и оттого вовсе бесшумной машины; такой шум позволяет расслышать само исчезновение шума. <…> Оттого машины, производящие гул, приносят блаженство. Например, Сад множество раз воображал и описывал эротическую машину — продуманное (придуманное) нагромождение тел, органы наслаждения которых тщательно состыкованы друг с другом; когда конвульсивными движениями участников эта машина приходит в действие, она подрагивает и издает приглушенный гул — она работает, и работает исправно. Другой пример: когда в наши дни в Японии множество людей предается игре в огромном зале с игральными автоматами <…>, то весь зал наполнен мощным гулом катящихся шариков, и этим гулом обозначается исправный ход коллективной машины — машины удовольствия, доставляемого игрой, точными телодвижениями.
Оба примера показывают, что в гуле звучит телесная общность; в шуме «работающего» удовольствия ничей голос не возвышается, не становится ведущим и не выделяется особо, ничей голос не может даже возникнуть; гул — это не что иное, как шум наслаждающегося множества (но отнюдь не массы — масса, напротив, единогласна и громогласна). <…> В виде устной речи язык словно фатально обречен на избыток смысла, который не дает языку вполне осуществить заложенное в нем наслаждение. <…> Подобно тому как гул машины есть шум от бесшумности, так и гул языка — не-смысл, позволяющий услышать где-то вдали звучание смысла, раз и навсегда освобожденного от всех видов насилия, которые исходят словно из ящика Пандоры, от знака, порожденного «печальной и дикой историей рода человеческого». <…>
На днях я вдруг ощутил гул языка в одном из кадров фильма Антониони о Китае: на деревенской улице, прислонившись к стене, дети громко читают вслух, все вместе и не обращая внимания друг на друга, каждый свою книгу. Получался самый настоящий гул, как от исправно работающей машины; смысл был для меня вдвойне непостижим — по незнанию китайского языка и из-за того, что читающие заглушали друг друга; и однако же я, словно в галлюцинации (настолько ярко воспринимались все нюансы этой сцены), слышал здесь музыку, человеческое дыхание, сосредоточенность, усердие — одним словом, нечто целенаправленное. <…> Ныне я в чем-то уподобляюсь древним грекам, о которых Гегель писал, что они взволнованно и неустанно вслушивались в шелест листвы, в журчание источников, в шум ветра, одним словом — в трепет Природы, пытаясь различить разлитую в ней мысль. Так и я, вслушиваясь в гул языка, вопрошаю трепещущий в нем смысл — ведь для меня, современного человека, этот язык и составляет Природу.
На днях я вдруг ощутил гул языка в одном из кадров фильма Антониони о Китае: на деревенской улице, прислонившись к стене, дети громко читают вслух, все вместе и не обращая внимания друг на друга, каждый свою книгу. Получался самый настоящий гул, как от исправно работающей машины; смысл был для меня вдвойне непостижим — по незнанию китайского языка и из-за того, что читающие заглушали друг друга; и однако же я, словно в галлюцинации (настолько ярко воспринимались все нюансы этой сцены), слышал здесь музыку, человеческое дыхание, сосредоточенность, усердие — одним словом, нечто целенаправленное. <…> Ныне я в чем-то уподобляюсь древним грекам, о которых Гегель писал, что они взволнованно и неустанно вслушивались в шелест листвы, в журчание источников, в шум ветра, одним словом — в трепет Природы, пытаясь различить разлитую в ней мысль. Так и я, вслушиваясь в гул языка, вопрошаю трепещущий в нем смысл — ведь для меня, современного человека, этот язык и составляет Природу.
«Структура "происшествия"»
Произошло убийство: если оно было политическим, о нем сообщают под рубрикой «Информация», а если нет — под рубрикой «Происшествия». <…> Можно подумать, что перед нами различие частного и общего, точнее именуемого и неименуемого: хроника происшествий, как указывает само ее название «Разные происшествия», возникает как классификация неклассифицируемого, это некий бесформенный остаток никак не организованных новостей; сущность «происшествия» привативна, оно начинает существовать лишь тогда, когда мир перестает поддаваться номинации, не входит больше ни в какой известный каталог (политики, экономики, войн, зрелищ, наук и т. д.); одним словом, это своего рода чудовищная информация, аналогичная всем исключительным или ничего не значащим, то есть анемическим фактам. <…> Убийство выходит за рамки происшествий тогда, когда оно экзогенно, происходит из уже известного мира; а потому можно сказать, что у него нет собственной, самодостаточной структуры, так как оно всегда представляет собой лишь видимый элемент имплицитной, предсуществующей ему структуры; политическая информация невозможна вне временной длительности, поскольку политика — транстемпоральная категория; собственно, так же обстоит дело и со всеми новостями, взятыми из области уже именованного, из предшествующего времени, — они никогда не могут быть «происшествиями»; это самые настоящие фрагменты романа, поскольку любой роман сам есть развернутое знание, а происходящие в нем события образуют лишь переменную величину, зависящую от этого знания. <…> Политическое убийство всегда, по определению является лишь частичной информацией; напротив того, «происшествие» представляет собой информацию целостную или, точнее, имманентную; оно в самом себе содержит все свое знание — для восприятия происшествий нет надобности ничего знать о реальном мире; оно формально отсылает только к себе самому; конечно, по своему содержанию оно не чуждо реальному миру: стихийные бедствия, убийства, похищения, нападения, несчастные случаи, кражи, всякие странные выходки — все это отсылает к человеку, его истории, его отчужденности, его фантазмам, грезам и страхам; возможны идеология или психоанализ происшествий; однако это такой мир, познание которого всегда носит лишь интеллектуально-аналитический характер, вырабатывается лишь на вторичном уровне самим рассказывающим о «происшествии», а не тем, кто потребляет его рассказ; на уровне чтения в «происшествии» все дано — его обстоятельства, причины, предыстория, исход; не обладая ни временной длительностью, ни внешним контекстом, оно представляет собой непосредственноцелостную сущность. <…>
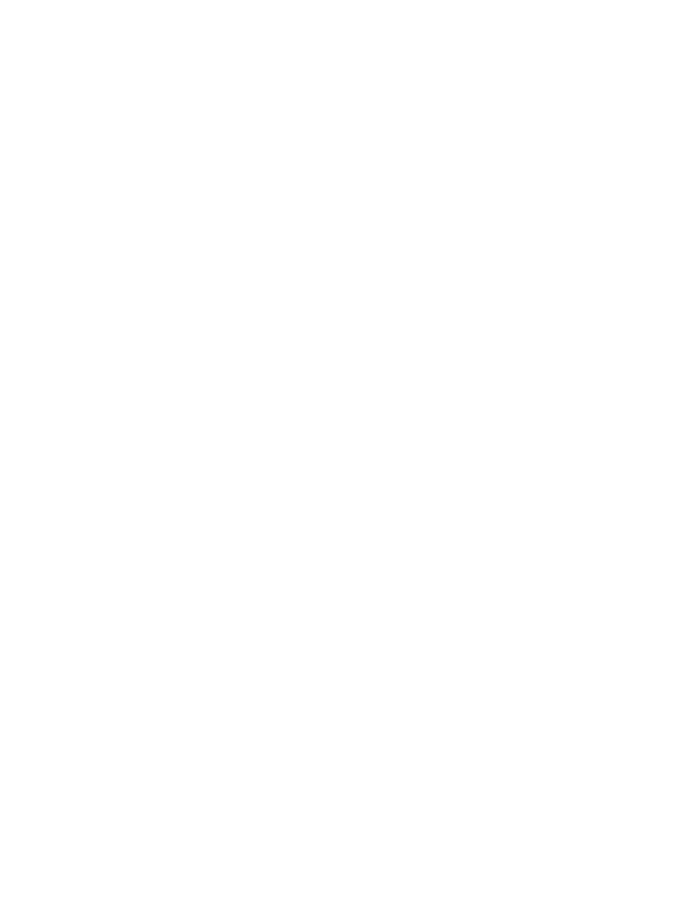
По-видимому, все имманентные «происшествию» отношения могут быть сведены к двум типам: <…> отношение каузальности и отношение совпадения. <…> Первый тип встречается чрезвычайно часто: преступление и его мотив, несчастный случай и его обстоятельство, — и здесь действуют сильнейшие стереотипы: драма на почве страстей, преступление из-за денег и т. д. В тех же случаях, когда каузальность является нормально-ожидаемой, акцент делается не на отношении как таковом, хотя им по-прежнему формируется структура рассказа, а на так называемых dramatis personae (ребенок, старик, мать и т. д.) — своеобразных эмоциональных сущностях, призванных оживлять стереотип.
<…> В «происшествии» всегда присутствует удивление (писать —значит удивлять); а удивление обязательно предполагает некоторое нарушение причинности, такой факт, причину которого нельзя сразу назвать. Интересно было бы составить карту необъяснимого в наши дни — такую, какой представляет ее себе не наука, а повседневное сознание; судя по всему, в хронике происшествий необъяснимое сводится к двум категориям фактов — чудесам и преступлениям. В старину так называемые чудеса, которые, наверно, заполнили бы собой почти всю тогдашнюю хронику происшествий, если бы в те времена существовала популярная пресса, всегда происходили в небесном пространстве, в последние же годы остался, кажется, только один вид чуда — летающие тарелки. <…> Сыщик, эта эманация общества как целого в его бюрократической форме, становится современной фигурой разгадчика загадок (Эдипа), который заставляет умолкнуть грозное «почему», звучащее в вещах; его терпеливо-упорная деятельность — символ глубинного желания: человек лихорадочно старается заткнуть зияющую брешь в цепи причин, положить конец своей фрустрации и тревоге. <…> Второй тип — отношение совпадения, повтор какого-то, пусть и незначительного, события: одну и ту же драгоценность украли три раза, хозяйка гостиницы выигрывает в каждом розыгрыше лотереи. Повтор всегда вызывает в воображении какую-то неведомую причину, ведь для повседневного сознания алеаторность носит дистрибутивный, а не репетитивный характер: считается, что случайные события варьируются, а если повторяются — значит, в них заключен какой-то особый смысл. <…> В «происшествиях» причинность все время подвержена соблазну совпадения, «происшествие» образуется на стыке этих двух процессов, там, где событие всецело переживается как знамение, но содержание его неясно. <…>
<…> В «происшествии» всегда присутствует удивление (писать —значит удивлять); а удивление обязательно предполагает некоторое нарушение причинности, такой факт, причину которого нельзя сразу назвать. Интересно было бы составить карту необъяснимого в наши дни — такую, какой представляет ее себе не наука, а повседневное сознание; судя по всему, в хронике происшествий необъяснимое сводится к двум категориям фактов — чудесам и преступлениям. В старину так называемые чудеса, которые, наверно, заполнили бы собой почти всю тогдашнюю хронику происшествий, если бы в те времена существовала популярная пресса, всегда происходили в небесном пространстве, в последние же годы остался, кажется, только один вид чуда — летающие тарелки. <…> Сыщик, эта эманация общества как целого в его бюрократической форме, становится современной фигурой разгадчика загадок (Эдипа), который заставляет умолкнуть грозное «почему», звучащее в вещах; его терпеливо-упорная деятельность — символ глубинного желания: человек лихорадочно старается заткнуть зияющую брешь в цепи причин, положить конец своей фрустрации и тревоге. <…> Второй тип — отношение совпадения, повтор какого-то, пусть и незначительного, события: одну и ту же драгоценность украли три раза, хозяйка гостиницы выигрывает в каждом розыгрыше лотереи. Повтор всегда вызывает в воображении какую-то неведомую причину, ведь для повседневного сознания алеаторность носит дистрибутивный, а не репетитивный характер: считается, что случайные события варьируются, а если повторяются — значит, в них заключен какой-то особый смысл. <…> В «происшествиях» причинность все время подвержена соблазну совпадения, «происшествие» образуется на стыке этих двух процессов, там, где событие всецело переживается как знамение, но содержание его неясно. <…>
«Смерть автора»
Бальзак в новелле «Сарразин» пишет такую фразу, говоря о переодетом женщиной кастрате: «То была истинная женщина, со всеми ее внезапными страхами, необъяснимыми причудами, инстинктивными тревогами, беспричинными дерзостями, задорными выходками и пленительной тонкостью чувств». Кто говорит так? <…>
Узнать это нам никогда не удастся, по той причине, что в письме как раз и уничтожается всякое понятие о голосе, об источнике. Письмо — та область неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь телесная тождественность пишущего. <…>
Фигура автора принадлежит Новому времени; по-видимому, она формировалась нашим обществом по мере того, как с окончанием Средних веков это общество стало открывать для себя (благодаря английскому эмпиризму, французскому рационализму и принципу личной веры, утвержденному Реформацией) достоинство индивида, или, выражаясь более высоким слогом, «человеческой личности». <…> В средостении того образа литературы, что бытует в нашей культуре, безраздельно царит автор, его личность, история его жизни, его вкусы и страсти; для критики обычно и по сей день все творчество Бодлера — в его житейской несостоятельности, все творчество Ван Гога — в его душевной болезни <…>; объяснение произведения всякий раз ищут в создавшем его человеке, как будто в конечном счете сквозь более или менее прозрачную аллегоричность вымысла нам всякий раз «исповедуется» голос одного и того же лица — автора. <…>
Во Франции первым был, вероятно, Малларме, в полной мере увидевший и предвидевший необходимость поставить сам язык на место того, кто считался его владельцем, сам язык действует, «перформирует»; суть всей поэтики Малларме в том, чтобы устранить автора, заменив его письмом, — а это значит, как мы увидим, восстановить в правах читателя. <…> Даже Пруст, при всем видимом психологизме его так называемого анализа души, открыто ставил своей задачей предельно усложнить — за счет бесконечного углубления в подробности — отношения между писателем и его персонажами. Избрав рассказчиком не того, кто нечто повидал и пережил, даже не того, кто пишет, а того, кто собирается писать (молодой человек в его романе — а впрочем, сколько ему лет и кто он, собственно, такой?— хочет писать, но не может начать, и роман заканчивается как раз тогда, когда письмо наконец делается возможным), Пруст тем самым создал эпопею современного письма. <…>
Узнать это нам никогда не удастся, по той причине, что в письме как раз и уничтожается всякое понятие о голосе, об источнике. Письмо — та область неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь телесная тождественность пишущего. <…>
Фигура автора принадлежит Новому времени; по-видимому, она формировалась нашим обществом по мере того, как с окончанием Средних веков это общество стало открывать для себя (благодаря английскому эмпиризму, французскому рационализму и принципу личной веры, утвержденному Реформацией) достоинство индивида, или, выражаясь более высоким слогом, «человеческой личности». <…> В средостении того образа литературы, что бытует в нашей культуре, безраздельно царит автор, его личность, история его жизни, его вкусы и страсти; для критики обычно и по сей день все творчество Бодлера — в его житейской несостоятельности, все творчество Ван Гога — в его душевной болезни <…>; объяснение произведения всякий раз ищут в создавшем его человеке, как будто в конечном счете сквозь более или менее прозрачную аллегоричность вымысла нам всякий раз «исповедуется» голос одного и того же лица — автора. <…>
Во Франции первым был, вероятно, Малларме, в полной мере увидевший и предвидевший необходимость поставить сам язык на место того, кто считался его владельцем, сам язык действует, «перформирует»; суть всей поэтики Малларме в том, чтобы устранить автора, заменив его письмом, — а это значит, как мы увидим, восстановить в правах читателя. <…> Даже Пруст, при всем видимом психологизме его так называемого анализа души, открыто ставил своей задачей предельно усложнить — за счет бесконечного углубления в подробности — отношения между писателем и его персонажами. Избрав рассказчиком не того, кто нечто повидал и пережил, даже не того, кто пишет, а того, кто собирается писать (молодой человек в его романе — а впрочем, сколько ему лет и кто он, собственно, такой?— хочет писать, но не может начать, и роман заканчивается как раз тогда, когда письмо наконец делается возможным), Пруст тем самым создал эпопею современного письма. <…>
Язык знает «субъекта», но не «личность», и этого субъекта, определяемого внутри речевого акта и ничего не содержащего вне его, хватает, чтобы «вместить» в себя весь язык. <…> Для тех, кто верит в Автора, он всегда мыслится в прошлом по отношению к его книге. Современный скриптор рождается одновременно с текстом, у него нет никакого бытия до и вне письма. <…> Остается только одно время — время речевого акта, и всякий текст вечно пишется здесь и сейчас. <…> Следовательно, современный скриптор, покончив с Автором, не может более полагать, согласно патетическим воззрениям своих предшественников, что рука его не поспевает за мыслью или страстью и что коли так, то он, принимая сей удел, должен сам подчеркивать это отставание и без конца «отделывать» форму своего произведения; наоборот, его рука, утратив всякую связь с голосом, совершает чисто начертательной (а не выразительный) жест и очерчивает некое знаковое поле, не имеющее исходной точки, — во всяком случае, оно исходит только из языка как такового, а он неустанно ставит под сомнение всякое представление об исходной точке. <…> Царствование Автора исторически было и царствованием Критика, — в многомерном письме все приходится распутывать, но расшифровывать нечего; структуру можно прослеживать, «протягивать» (как подтягивают спущенную петлю на чулке) во всех ее повторах и на всех ее уровнях, однако невозможно достичь дна. <…> Тем самым литература (отныне правильнее было бы говорить письмо), отказываясь признавать за текстом (и за всем миром как текстом) какую-либо «тайну», то есть окончательный смысл, открывает свободу контртеологической, революционной по сути своей деятельности, так как не останавливать течение смысла — значит в конечном счете отвергнуть самого бога и все его ипостаси — рациональный порядок, науку, закон.
Вернемся к бальзаковской фразе. Ее не говорит никто (то есть никакое «лицо»): если у нее есть источник и голос, то не в письме, а в чтении. <…> Читатель — это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель — это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст. <…> Критике классического толка никогда не было дела до читателя; для нее в литературе существует лишь тот, кто пишет. <…>
Вернемся к бальзаковской фразе. Ее не говорит никто (то есть никакое «лицо»): если у нее есть источник и голос, то не в письме, а в чтении. <…> Читатель — это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель — это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст. <…> Критике классического толка никогда не было дела до читателя; для нее в литературе существует лишь тот, кто пишет. <…>
«Эффект реальности»

Когда Флобер, описывая зал, где проводит время г-жа Обен, хозяйка Фелисите, сообщает нам, что «на стареньком фортепьяно, под барометром, высилась пирамида из коробок и картонок»; когда Мишле, рассказывая о казни Шарлотты Корде, о том, как в тюрьме незадолго до прихода палача ее посетил художник, написавший ее портрет, добавляет, что «часа через полтора у нее за спиной тихонько постучали в небольшую дверцу», — то эти авторы (как и многие другие) вводят здесь в текст особого рода элементы, которые не могут быть оправданы никакой функцией. С точки зрения структуры подобные элементы нарушают всякий порядок и кажутся, что еще тревожнее, своего рода повествовательными излишествами, как будто повествование расточительно сорит «ненужными» деталями, повышая местами стоимость нарративной информации. Если, во флоберовском описании фортепьяно еще может рассматриваться как индекс буржуазного благосостояния хозяйки, а «пирамида из коробок и картонок» — как коннотативный знак безалаберной и словно выморочной атмосферы дома Обенов, то никакой функцией, по-видимому, не объяснимо упоминание о барометре; этот предмет ничем не экзотичен, не показателен и не входит в разряд вещей, заслуживающих упоминания. <...>
Такие «ненужные детали», даже если они и немногочисленны, все же неизбежны: какое-то их количество содержится в любом повествовательном тексте.
Такие «ненужные детали», даже если они и немногочисленны, все же неизбежны: какое-то их количество содержится в любом повествовательном тексте.
Подобные незначимые элементы отсылают всякий раз к тому, что обычно называют «конкретной реальностью». Таким образом, чистое «изображение реальности», голое изложение «того, что есть» (или было) как бы сопротивляется смыслу, подтверждая тем самым распространенную мифологическую оппозицию пережитого (то есть живого) и умопостигаемого. <…> В современной идеологии навязчивые призывы к «конкретности» (которые риторически адресуются гуманитарным наукам, литературе, нормам поведения) всегда нацелены своим острием против смысла, словно в силу какого-то особого положения ничто живое не может быть значимым, и наоборот. <…> В историческом повествовании, обязанном излагать «то, что реально произошло», отсылка к этой реальности становится основной; тут уже неважно, что деталь нефункциональна, главное, чтобы она прямо указывала на «то, что имело место». <…> Именно история и служит образцом для тех видов повествования, где межфункциональные промежутки заполняются структурно излишними элементами. Логично поэтому, что реализм в литературе сложился примерно в те же десятилетия, когда воцарилась «объективная» историография.
Сюда же относится и нынешнее развитие технических средств, форм и институтов, порожденных постоянной потребностью удостоверяться в доподлинности «реального», — такова фотография (прямое свидетельство о том, «что было здесь»), репортаж, выставки древностей, туристические поездки к памятникам и местам исторических событий. Все это говорит о том, что «реальности» хватает силы отрицать всякую «функциональность», что сообщение о ней совершенно не нуждается во включении в какую-либо структуру и что «там-так-было» — это уже достаточная опора для слова. <…> Классическая культура веками жила мыслью о том, что реальность никоим образом не может смешиваться с правдоподобием. <…> Правдоподобное — это всего лишь то, что признается таковым, оно всецело подчинено мнению (толпы). <…> В рамках правдоподобия ни один элемент не исключает противоположного ему, так как опирается на мнение большинства, но не на абсолютный авторитет. В зачине всякого классического текста (то есть подчиненного правдоподобию в его древнем смысле) подразумевается слово Esto (пусть, например, предположим...). Что же касается «реальных», дробных, «прокладочных» элементов, о которых у нас идет речь, то они отрицают этот неявный зачин и располагаются в структурной ткани без всяких предварительных условий. <…> Такое явление можно назвать референциальной иллюзией. <…> «Барометр» у Флобера, «небольшая дверца» у Мишле говорят в конечном счете только одно: мы — реальность; они означают «реальность» как общую категорию, а не особенные ее проявления. <…> Это новое правдоподобие резко отличается от старого, поскольку сущность его не в соблюдении «законов жанра», или даже в их видимости, а в стремлении нарушить трехчленную природу знака, сделать так, чтобы предмет встречался со своим выражением без посредников. <…>
Сюда же относится и нынешнее развитие технических средств, форм и институтов, порожденных постоянной потребностью удостоверяться в доподлинности «реального», — такова фотография (прямое свидетельство о том, «что было здесь»), репортаж, выставки древностей, туристические поездки к памятникам и местам исторических событий. Все это говорит о том, что «реальности» хватает силы отрицать всякую «функциональность», что сообщение о ней совершенно не нуждается во включении в какую-либо структуру и что «там-так-было» — это уже достаточная опора для слова. <…> Классическая культура веками жила мыслью о том, что реальность никоим образом не может смешиваться с правдоподобием. <…> Правдоподобное — это всего лишь то, что признается таковым, оно всецело подчинено мнению (толпы). <…> В рамках правдоподобия ни один элемент не исключает противоположного ему, так как опирается на мнение большинства, но не на абсолютный авторитет. В зачине всякого классического текста (то есть подчиненного правдоподобию в его древнем смысле) подразумевается слово Esto (пусть, например, предположим...). Что же касается «реальных», дробных, «прокладочных» элементов, о которых у нас идет речь, то они отрицают этот неявный зачин и располагаются в структурной ткани без всяких предварительных условий. <…> Такое явление можно назвать референциальной иллюзией. <…> «Барометр» у Флобера, «небольшая дверца» у Мишле говорят в конечном счете только одно: мы — реальность; они означают «реальность» как общую категорию, а не особенные ее проявления. <…> Это новое правдоподобие резко отличается от старого, поскольку сущность его не в соблюдении «законов жанра», или даже в их видимости, а в стремлении нарушить трехчленную природу знака, сделать так, чтобы предмет встречался со своим выражением без посредников. <…>

