Альманах «Транслит»
Надвое рассеченный образ: Евгений Харитонов как первый советский акционист
Евгений Харитонов — парадоксальная фигура советской культуры: одновременно культовый писатель андеграунда и успешный официальный режиссер. В своей прозе и поэзии Харитонов выстраивал континуум между текстом и телом. Сама фактура его гомоэротических произведений напоминала изрезанное и болящее тело радикального перформанса венских акционистов. T&P публикуют текст лауреата премии Андрея Белого, критика Алексея Конакова, опубликованного в последнем номере альманаха «Транслит».
В 1980-м году молодой киевский студент по имени Олег Кулик, будучи проездом в Москве, попал на одно из представлений знаменитого Театра мимики и жеста. Пьеса называлась «Очарованный остров» и с успехом шла уже восемь лет; поставивший ее режиссер, понятное дело, принадлежал к столичному истеблишменту, хорошо зарабатывал, снимался в кинофильмах, защитил диссертацию под руководством Михаила Ромма, но это все равно. Важно то, что странный, тревожащий танец, организованный им на сцене, какая-то почти неестественная выразительность молчаливых фигур оказывались по силе аффекта неизмеримо выше любой остальной «культуры», производившейся тогда в стране. Живя в воспоминаниях и приватных рассказах Кулика, это впечатление о сокрушительной мощи пантомимы стало, спустя несколько десятилетий, предметом рефлексии в новых художественных кругах, куда входили его пасынок Андрей Николаев, Олег Воротников, Надежда Толоконникова… Примерно так, в рискованном жанре апокрифа, можно было бы отреферировать приводимый ниже текст. Но обо всем по порядку.
Известно, что характерной особенностью позднесоветской культуры (так или иначе фундирующей культуру современную) было существование в ней принципиальной, недеконструируемой оппозиции «официального» и «андеграундного». Пережив распад СССР, эта оппозиция не исчезла, но — ровно наоборот — укрепилась, став предметом многочисленных споров и спекуляций. На ее утверждении с обеих сторон делались репутации и накапливались символические капиталы, в целях ее защиты учреждались новые институции, раздавались премии, писались исследования; до определенного момента все это функционировало как весьма эффективный механизм, позволявший двигать культуру вперед. Периодически, однако, находились феномены, при столкновении с которыми такой механизм представал во всей своей жестокости и неадекватности. Рассеченный надвое образ Евгения Харитонова кажется в этом смысле очень показательным примером. В разговорах о его творческом наследии до сих пор некритично воспроизводится устоявшаяся дихотомия: великий андеграундный писатель vs. успешный официальный режиссер. Между тем, указанное деление зачастую является попросту ненужным: так, например, вопросы пластики, движения и жестов, над которыми работал Харитонов в своей публичной ипостаси, остаются первостепенными и для его (подземной, сокрытой, не предназначенной печатанию) прозы. По-видимому, скорейшее подтверждение данного тезиса можно найти, перечитав удивительный «Роман» Харитонова. Кажется, именно этот текст — счастливо избавившийся от рудиментов сюжета, которые тяготели над рассказами типа «Духовки», но еще не скованный страстной интонацией, обеспечивающей единство более поздних вещей, — отчетливо манифестирует собственно писательскую манеру Харитонова, показывает нам способы обращения автора со словами и буквами. Говоря иначе, именно в «Романе» с максимальной чистотой проявлена материальная истина харитоновского письма.
Пожалуй, проще всего ригидная оппозиция «официального» и «неофициального» преодолевается, если рассматривать все творчество Харитонова в строго формалистической перспективе. Тогда можно заметить довольно любопытный факт: и в театральной труппе и на листе бумаги Харитонов стремится работать с разными медиумами как с одним — он постоянно ищет для них общую референцию, единую основу. Вероятно, уместным будет предположить, что и пантомима и текст рассматриваются им в качестве альтернативных означающих одного и того же означаемого. И этим означаемым оказывается для Харитонова — человеческое тело. Собственно, разговоры о телесности харитоновской прозы давно уже стали классическими: достаточно вспомнить известные суждения Александра Гольдштейна («Это запись состояний отвратительно работающего, истрепанного сердца») или Владимира Сорокина («поколение воспринимало Харитонова как бы "слипшимся" со своим текстом»). Последняя фраза особенно важна — она подсказывает нам, что между телом и текстом Харитонова установлены отношения не сходства (как можно было бы подумать), но смежности. Ни о каких метафорах нет и речи! — морщины и складки кожи продолжаются в виде строчек на листе бумаги, фразы змеями тянутся из потаенных отверстий тела, и отдельные поры на светлой щеке оказываются вдруг гласными буквами: о е ю а э… Как известно, концептуальное обоснование подобного подхода было сделано Роланом Бартом в «Удовольствии от текста»: «Текст обладает человеческим обликом; быть может, это образ, анаграмма человеческого тела? Несомненно. Но речь идет именно о нашем эротическом теле». Харитонов, действительно, часто использует анаграммирование, а рядом с ним — сплошную запись слов, отказ от знаков препинания, смену регистров, печать вверх ногами или задом наперед и множество других приемов, позволяющих тематизировать телесную природу текста, его сугубо пластическое (и потому некоторым образом «бессмысленное») существование:
Известно, что характерной особенностью позднесоветской культуры (так или иначе фундирующей культуру современную) было существование в ней принципиальной, недеконструируемой оппозиции «официального» и «андеграундного». Пережив распад СССР, эта оппозиция не исчезла, но — ровно наоборот — укрепилась, став предметом многочисленных споров и спекуляций. На ее утверждении с обеих сторон делались репутации и накапливались символические капиталы, в целях ее защиты учреждались новые институции, раздавались премии, писались исследования; до определенного момента все это функционировало как весьма эффективный механизм, позволявший двигать культуру вперед. Периодически, однако, находились феномены, при столкновении с которыми такой механизм представал во всей своей жестокости и неадекватности. Рассеченный надвое образ Евгения Харитонова кажется в этом смысле очень показательным примером. В разговорах о его творческом наследии до сих пор некритично воспроизводится устоявшаяся дихотомия: великий андеграундный писатель vs. успешный официальный режиссер. Между тем, указанное деление зачастую является попросту ненужным: так, например, вопросы пластики, движения и жестов, над которыми работал Харитонов в своей публичной ипостаси, остаются первостепенными и для его (подземной, сокрытой, не предназначенной печатанию) прозы. По-видимому, скорейшее подтверждение данного тезиса можно найти, перечитав удивительный «Роман» Харитонова. Кажется, именно этот текст — счастливо избавившийся от рудиментов сюжета, которые тяготели над рассказами типа «Духовки», но еще не скованный страстной интонацией, обеспечивающей единство более поздних вещей, — отчетливо манифестирует собственно писательскую манеру Харитонова, показывает нам способы обращения автора со словами и буквами. Говоря иначе, именно в «Романе» с максимальной чистотой проявлена материальная истина харитоновского письма.
Пожалуй, проще всего ригидная оппозиция «официального» и «неофициального» преодолевается, если рассматривать все творчество Харитонова в строго формалистической перспективе. Тогда можно заметить довольно любопытный факт: и в театральной труппе и на листе бумаги Харитонов стремится работать с разными медиумами как с одним — он постоянно ищет для них общую референцию, единую основу. Вероятно, уместным будет предположить, что и пантомима и текст рассматриваются им в качестве альтернативных означающих одного и того же означаемого. И этим означаемым оказывается для Харитонова — человеческое тело. Собственно, разговоры о телесности харитоновской прозы давно уже стали классическими: достаточно вспомнить известные суждения Александра Гольдштейна («Это запись состояний отвратительно работающего, истрепанного сердца») или Владимира Сорокина («поколение воспринимало Харитонова как бы "слипшимся" со своим текстом»). Последняя фраза особенно важна — она подсказывает нам, что между телом и текстом Харитонова установлены отношения не сходства (как можно было бы подумать), но смежности. Ни о каких метафорах нет и речи! — морщины и складки кожи продолжаются в виде строчек на листе бумаги, фразы змеями тянутся из потаенных отверстий тела, и отдельные поры на светлой щеке оказываются вдруг гласными буквами: о е ю а э… Как известно, концептуальное обоснование подобного подхода было сделано Роланом Бартом в «Удовольствии от текста»: «Текст обладает человеческим обликом; быть может, это образ, анаграмма человеческого тела? Несомненно. Но речь идет именно о нашем эротическом теле». Харитонов, действительно, часто использует анаграммирование, а рядом с ним — сплошную запись слов, отказ от знаков препинания, смену регистров, печать вверх ногами или задом наперед и множество других приемов, позволяющих тематизировать телесную природу текста, его сугубо пластическое (и потому некоторым образом «бессмысленное») существование:
«и пока подстроишься под
их ум ух им иу хм растеряешь свой»,
«ИяиоН Яи оН
Я=я я-я=ты ты+ты=2 ты»,
«Ась? Гусь
Гугали ндваванкгеру ивоУХ ОД»,
«Уперся водно рсяводно
И МЕЖ
ДУ ПРочим ано
вам и ни даеца патаму шта вы так на ниво наки
нулись»,
«Этот знакомый выпалкак зуб.
Выпалкакзуб. Как зуб. Зуб».
их ум ух им иу хм растеряешь свой»,
«ИяиоН Яи оН
Я=я я-я=ты ты+ты=2 ты»,
«Ась? Гусь
Гугали ндваванкгеру ивоУХ ОД»,
«Уперся водно рсяводно
И МЕЖ
ДУ ПРочим ано
вам и ни даеца патаму шта вы так на ниво наки
нулись»,
«Этот знакомый выпалкак зуб.
Выпалкакзуб. Как зуб. Зуб».
И, однако же, при всей своей соблазнительности, в применении к тексту «Романа» бартовской концепции «удовольствия» чувствуется какая-то заведомая несообразность. Дело, пожалуй, в том, что инструмент и объект исследования, если можно так выразиться, чудовищно не совпадают по темпераментам: сангвинический, заведомо комфортный, детально отрефлектированный гедонизм позднего Барта отчетливо диссонирует с черной меланхолией текстов Харитонова, с гримасами отчаяния и почти животного ужаса, перманентно фиксируемыми в них. И потому, если мы хотим сохранить исходный пункт наших размышлений, то нам следует признать, что «Роман» Харитонова — вовсе не холеное «эротическое тело» парижского интеллектуала, уютно длящееся под обложкой очередного академического тома, но скорее — страдающее, болящее, исколотое и изрезанное тело радикальных перформансов в стиле, например, венского акционизма… Можно ли каким-то образом подтвердить эту догадку?
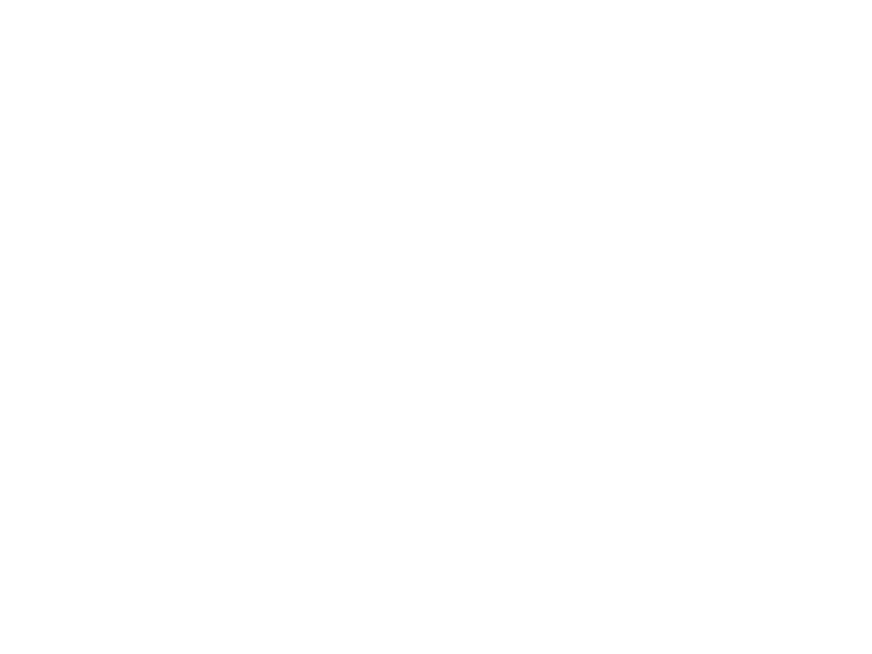
© A–Я, Paris, 1985
Продолжая держаться избранной формалистической перспективы, отметим теперь, что одним из главных стилистических приемов венского акционизма был порез, и что именно такой прием максимально широко используется Харитоновым в «Романе». Мотивировкой при этом служит отказ Харитонова от стандартного оператора переноса, принятого в отечественной типографике. Устранение дефиса, обозначающего непрерывность переносимого на следующую строку слова, приводит к тому, что край листа становится вдруг острой режущей кромкой, рвущей слова на части, сдирающей с них кожу, холодным механическим инструментом проходящей через текст:
«И вот он по
кормил пого
ворил помол
чал и на прощанье его
обокрали»,
«сидишь и
ждешь ы ждешыждешь сердеч
ных ранений сердце кровь се
рдце кровь сердце кровь перека
чивает»,
«махала пестрыми кры
лышками хотела вс
порхнуть остави
ть нельзя разведут
ся а теперь ско
рей вниз разыскать
ее в снегу».
кормил пого
ворил помол
чал и на прощанье его
обокрали»,
«сидишь и
ждешь ы ждешыждешь сердеч
ных ранений сердце кровь се
рдце кровь сердце кровь перека
чивает»,
«махала пестрыми кры
лышками хотела вс
порхнуть остави
ть нельзя разведут
ся а теперь ско
рей вниз разыскать
ее в снегу».
Одиночные выверенные порезы, система из нескольких порезов, перманентная сетка порезов, густо покрывающих текст. А ведь помимо них есть еще длинные шрамы зачеркиваний («И уподо/ бляться тем вашим кредиторам, кто не стесняли/ сь, и, если у них хватало упорства, даже полу/ чали долги назад»), болезненные уколы знаков препинания («Юноша из неб./ города из неб. семьи отпр. на неб/ осклон») и совершенно немотивированные разрывы слов, плавно валящихся в заумь («чужи етро пытро пытропы/ небу демве датьора зведке/ нибу димве датьора зветки/ наветки т к т/ угва гуа гагва уа/ уаго ррр мн мгн»). Таким образом, формальные приемы Харитонова при работе с материалом оказываются теми же, что и у Гюнтера Брюса, Рудольфа Шварцкоглера и Германа Нитша; при этом обращение к стилистическому опыту венцев позволяет радикализовать слишком гедонистичную теорию Барта, сделав ее более адекватной изломанному, исковерканному, израненному тексту «Романа». Но еще важнее факт, что акционизм оказывается той точкой, из которой проект Харитонова предстает как цельный: больше нет нужды применять к нему архаичные дихотомии, насильно разводящие по сторонам поэзию и прозу, тело и текст, официальное и андеграундное. Полезно прочитать полученный вывод и с другого конца: если мы намереваемся вести борьбу за культурное наследие ушедшей эпохи, если мы хотим избавиться от засилья (непродуктивных более) оппозиций, и если мы начинаем эту деятельность с исследования двусмысленных, официально-неофициальных фигур, подобных Харитонову — то в таком случае творчество последнего мы обязательно должны будем трактовать как уникальную версию акционизма, свободно перемещающегося по различным медиумам, использующего в их качестве все что угодно: от набора живых иероглифов на театральной сцене до труппы из тридцати трех глухонемых графем, от коллективного тела известной столичной рок-команды до одинокого тела самого Харитонова, предсмертно спешащего по Пушкинской улице на последнюю публичную акцию.
Эта финальная апелляция к конкретному телу, разумеется, совсем не случайна — ведь и классический акционизм (в диапазоне от Марины Абрамович до Брюса Лаудена) чаще всего понимается именно как искусство разнообразных манифестаций плоти. Чем иногда кончались подобные манифестации, известно из опыта тех же венцев, в отношении которых весьма скоро была заведена череда уголовных дел об осквернениях, оскорблениях, оскоплениях etc. И в этом контексте достаточно продуктивно может быть рассмотрена неизбежная тема гомосексуальности Харитонова. Начать с того, что некоторые их гомосексуальных игр, описанных им в «Романе»
Эта финальная апелляция к конкретному телу, разумеется, совсем не случайна — ведь и классический акционизм (в диапазоне от Марины Абрамович до Брюса Лаудена) чаще всего понимается именно как искусство разнообразных манифестаций плоти. Чем иногда кончались подобные манифестации, известно из опыта тех же венцев, в отношении которых весьма скоро была заведена череда уголовных дел об осквернениях, оскорблениях, оскоплениях etc. И в этом контексте достаточно продуктивно может быть рассмотрена неизбежная тема гомосексуальности Харитонова. Начать с того, что некоторые их гомосексуальных игр, описанных им в «Романе»
(«1. Один садится за занавеску, в занаве
ске прорезь, гости подходят просовыва
ют хуй, тот должен угадать
(«НИЧЕЙ ХУЙ»)»)
ске прорезь, гости подходят просовыва
ют хуй, тот должен угадать
(«НИЧЕЙ ХУЙ»)»)
более всего походят на сценарии странных перформансов и загадочных акций, которые вряд ли будут когда-то исполнены. Но и сама по себе, — без таких сценариев, — гомосексуальная ориентация есть не что иное, как манифестация тела, неизбежно производящая скандал в консервативном российском обществе. С этой точки зрения гомосексуализм в советскую эпоху был своего рода «нулевой степенью» акционизма. Уголовная же перспектива мужеложства, имевшая место в СССР, безошибочно расставляет весовые коэффициенты: в конечном итоге спать с мужчинами и тайно писать об этом, как делал Харитонов, оказывается едва ли не более радикальным, чем публично резать себя опасной бритвой и мастурбировать на австрийский флаг. Гомосексуальная тематика произведений Харитонова может быть таким образом довольно логично вписана в общую акционистскую рамку, в связи с чем и сами эти произведения должны читаться правильно:
«сжать мускулы в кольцо рас
крыться как цветок выверну
ться изнанкой сжать кольце
вую мышцу и разжать наружу
вобрав его в себя первая
степень захвата», —
крыться как цветок выверну
ться изнанкой сжать кольце
вую мышцу и разжать наружу
вобрав его в себя первая
степень захвата», —
это вовсе не шокирующий натурализм, но протоколы работы первого советского акциониста Харитонова с единственным имеющимся у него медиумом — телом, — (точно так же, как были такими протоколами его статьи о жестовой терапии для заикающихся взрослых или написанная во ВГИКе научная работа о пантомиме).
В завершение разговора кажется соблазнительным осуществить небольшую инверсию и задать вопрос: если опыт акционизма помогает нам лучше понять Харитонова, то, в свою очередь, не поможет ли нам опыт Харитонова лучше понять акционизм? И здесь следует сделать одно важное уточнение; ведь знаменитый «домашний арест» в названии харитонов-ского сборника — это вовсе не констатация пережитого экзистенциального опыта пишущего или, например, культурной автаркии, осознанной как стилистический ресурс; «домашний арест» — это, прежде всего, эпистемологическая процедура (предписывающая, в числе прочего, понимать текст сборника как феномен конкретного тела). Но почему бы нам не попытаться применить подобную процедуру в отношении, скажем, московского акционизма девяностых? (Это, разумеется, будет насильственным и извращенным — т. е. удачно соответствующим художественной практике Александра Бренера, Олега Кулика, Олега Мавроматти и других, — жестом.) В результате «домашнего ареста» московский акционизм избавляется от обидных упреков в эпигонстве, но зато становится вынужденным искать собственные основания, изобретать собственную традицию в гораздо более тесных пределах одного города — и что, если одним из таких оснований как раз и окажется опыт Е. Харитонова? Что, если предпринятая им тематизация жизни частного тела под сенью Империи, его новаторская теория пантомимы (высоко оцененная Вяч. Вс. Ивановым), его громкий режиссерский успех в «Очарованном острове», переизлучение, наконец, его идей через студию в ДК «Москворечье» и концерты «Последнего шанса», и были той питательной почвой, на которой неявно возрос московский акционизм? Разве знаменитая акция «Движения Э.Т.И.» на Красной площади («Хуй») не была проявлением чисто харитоновской проблематики тотального слияния тела и текста? Разве критический месседж Бренера и Кулика не сводился в начале девяностых к тому, что голое беззаконное тело так и осталось голым беззаконным телом, несмотря на смену общественной формации? Впрочем, апокрифический исток московского акционизма в творчестве Харитонова нужен нам и по более веской причине: он подталкивает к анализу формальной стороны перформансов, к подробному изучению их телесного языка, к детальному описанию их пластики и хореографии — иными словами, к той проблематике, на которую до сих пор обращали крайне мало внимания, сосредотачиваясь, в основном, на чисто экспрессивной стороне акций. А ведь если вспомнить почти все знаменитые перформансы, созданные новым поколением художников — фаллос, медленно поднимающийся напротив Большого дома в Петербурге, девушек, танцующих на алтаре Храма Христа Спасителя, обнаженное тело, пришпиленное гвоздем к Красной Площади — разве не увидим мы, что в их основе лежит, прежде всего, филигранно продуманная режиссура групп и изощренная пластика отдельных тел? Таким образом, в открываемой Харитоновым перспективе отечественный акционизм новейшего времени оказывается — искусством пантомимы. Ее законы, ее кинематика, ее язык до сих пор были заслонены актуальной политической повесткой; возможно, именно изучение этих вопросов позволит нам радикально иначе взглянуть на российский контемпорари арт.
В данный момент готовится к печати книга А. Конакова «Вторая вненаходимая. Очерки неофициальной литературы СССР», заказать которую, поддержав издание, можно по ссылке.
В завершение разговора кажется соблазнительным осуществить небольшую инверсию и задать вопрос: если опыт акционизма помогает нам лучше понять Харитонова, то, в свою очередь, не поможет ли нам опыт Харитонова лучше понять акционизм? И здесь следует сделать одно важное уточнение; ведь знаменитый «домашний арест» в названии харитонов-ского сборника — это вовсе не констатация пережитого экзистенциального опыта пишущего или, например, культурной автаркии, осознанной как стилистический ресурс; «домашний арест» — это, прежде всего, эпистемологическая процедура (предписывающая, в числе прочего, понимать текст сборника как феномен конкретного тела). Но почему бы нам не попытаться применить подобную процедуру в отношении, скажем, московского акционизма девяностых? (Это, разумеется, будет насильственным и извращенным — т. е. удачно соответствующим художественной практике Александра Бренера, Олега Кулика, Олега Мавроматти и других, — жестом.) В результате «домашнего ареста» московский акционизм избавляется от обидных упреков в эпигонстве, но зато становится вынужденным искать собственные основания, изобретать собственную традицию в гораздо более тесных пределах одного города — и что, если одним из таких оснований как раз и окажется опыт Е. Харитонова? Что, если предпринятая им тематизация жизни частного тела под сенью Империи, его новаторская теория пантомимы (высоко оцененная Вяч. Вс. Ивановым), его громкий режиссерский успех в «Очарованном острове», переизлучение, наконец, его идей через студию в ДК «Москворечье» и концерты «Последнего шанса», и были той питательной почвой, на которой неявно возрос московский акционизм? Разве знаменитая акция «Движения Э.Т.И.» на Красной площади («Хуй») не была проявлением чисто харитоновской проблематики тотального слияния тела и текста? Разве критический месседж Бренера и Кулика не сводился в начале девяностых к тому, что голое беззаконное тело так и осталось голым беззаконным телом, несмотря на смену общественной формации? Впрочем, апокрифический исток московского акционизма в творчестве Харитонова нужен нам и по более веской причине: он подталкивает к анализу формальной стороны перформансов, к подробному изучению их телесного языка, к детальному описанию их пластики и хореографии — иными словами, к той проблематике, на которую до сих пор обращали крайне мало внимания, сосредотачиваясь, в основном, на чисто экспрессивной стороне акций. А ведь если вспомнить почти все знаменитые перформансы, созданные новым поколением художников — фаллос, медленно поднимающийся напротив Большого дома в Петербурге, девушек, танцующих на алтаре Храма Христа Спасителя, обнаженное тело, пришпиленное гвоздем к Красной Площади — разве не увидим мы, что в их основе лежит, прежде всего, филигранно продуманная режиссура групп и изощренная пластика отдельных тел? Таким образом, в открываемой Харитоновым перспективе отечественный акционизм новейшего времени оказывается — искусством пантомимы. Ее законы, ее кинематика, ее язык до сих пор были заслонены актуальной политической повесткой; возможно, именно изучение этих вопросов позволит нам радикально иначе взглянуть на российский контемпорари арт.
В данный момент готовится к печати книга А. Конакова «Вторая вненаходимая. Очерки неофициальной литературы СССР», заказать которую, поддержав издание, можно по ссылке.

