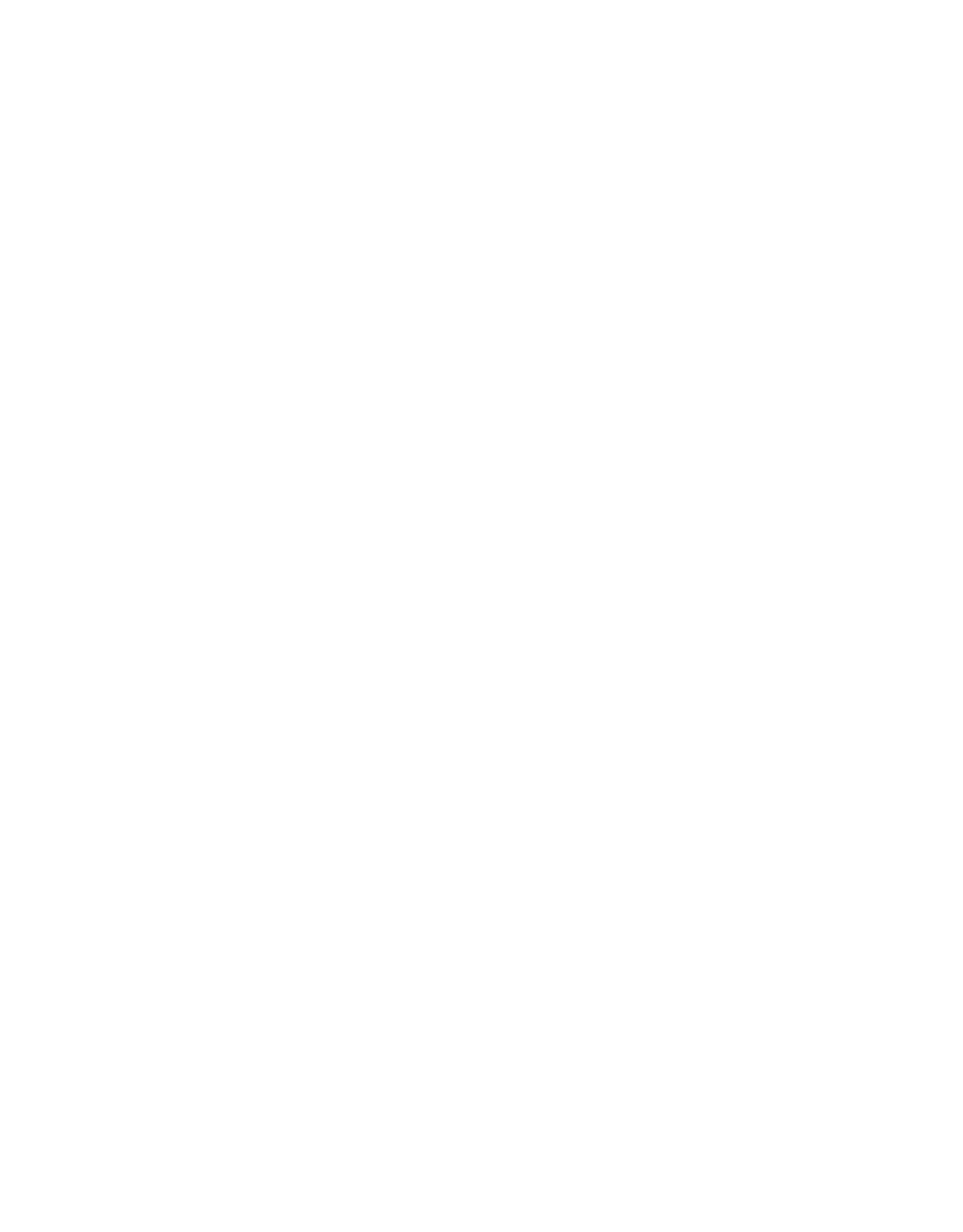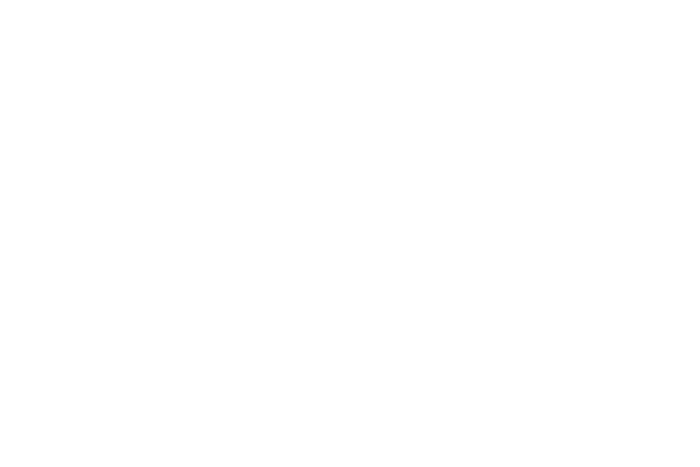Издательство Grundrisse
«Центральный парк»:
Вальтер Беньямин о героизме Бодлера и ауре товара
Вальтер Беньямин о героизме Бодлера и ауре товара
Избранные заметки немецкого философа о поэтическом предприятии в эпоху массового производства.
Согласно Беньямину, проститутка, товар, человеческая масса — эти «загадочные сущности» эпохи модерна — являются ключевыми для понимания аллегорического языка Шарля Бодлера. Книга немецкого философа «Центральный парк», выпущенная издательством Grundrisse, представляет собой попытку дешифровки художественного высказывания в ситуации, когда сам поэт становится лишь еще одним производителем на литературном рынке. T&P публикует отрывки из книги с комментарием поэта и критика Александра Скидана.
«"Центральный парк" — ключевой текст для понимания позднего Беньямина. Он образует констелляцию с очерком «Париж — столица девятнадцатого столетия» (1935) и тезисами «О понятии истории» (1940), проливая свет на важнейшие понятия и идеи («аура», «спасение», «катастрофа», критика концепции «прогресса») и саму текстуальную стратегию, задействованную в работах немецкого критика, начиная со второй половины 1930-х годов. Эту стратегию, или метод, отличает фрагментарность, монтаж цитат — зачастую раскавыченных — и невероятная сжатость, плотность высказывания, тяготеющая к афоризму и не утруждающая себя развернутыми аргументами. Логические связи читатель должен восстанавливать сам. Ханна Арендт, один из немногих парижских собеседников Беньямина, отмечала, что в его работах этого периода изменился даже синтаксис, все стало более прямым, исчезли колебания. «Мне часто кажется, что только сейчас он приближается к вещам, которые имеют для него решающее значение», — писала она.
Кроме того, «Центральный парк», написанный в ходе работы и переработки задуманной еще в конце 1920-х книги о Бодлере — «Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма», позволяет отчасти реконструировать ее третью, отсутствующую главу, которой надлежало стать теоретической основой всего проекта — «Товар как поэтический предмет». Наконец, в этом тексте переплетаются и по-новому осмысляются сквозные темы Беньямина, такие как аллегория, меланхолия, руины, фетишистский характер искусства в эпоху массового товарного производства, героизм и (само)проституирование «художника современной жизни». На концептуальном же уровне в случае «Центрального парка» можно говорить об оригинальнейшем, беспрецедентном синтезе социологического марксистского подхода и герменевтики».
Кроме того, «Центральный парк», написанный в ходе работы и переработки задуманной еще в конце 1920-х книги о Бодлере — «Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма», позволяет отчасти реконструировать ее третью, отсутствующую главу, которой надлежало стать теоретической основой всего проекта — «Товар как поэтический предмет». Наконец, в этом тексте переплетаются и по-новому осмысляются сквозные темы Беньямина, такие как аллегория, меланхолия, руины, фетишистский характер искусства в эпоху массового товарного производства, героизм и (само)проституирование «художника современной жизни». На концептуальном же уровне в случае «Центрального парка» можно говорить об оригинальнейшем, беспрецедентном синтезе социологического марксистского подхода и герменевтики».
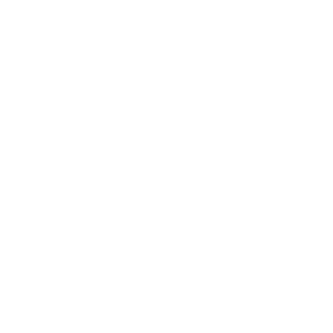
Александр Скидан
Поэт, критик, переводчик
~
5. Есть две легенды о Бодлере. Первую, согласно которой он есть изверг рода человеческого и гроза буржуазии, распространил он сам. Вторая родилась после его смерти, и на ней основана его слава. В ней он предстаёт мучеником. Этот фальшивый теологический нимб необходимо до конца разрушить. Для его нимба — формула Монье.
Можно сказать, что счастье пробирало его насквозь; про несчастье такого не скажешь. В естественном состоянии несчастье в нас не проникает.
Spleen — это ощущение перманентной катастрофы.
Ход истории, каким он отражается в катастрофическом сознании, занимает мыслящего человека не более, чем калейдоскоп в детских руках, в котором при каждом вращении прежний порядок осыпается, чтобы образовать новый. Этот образ вполне правомерен. Представления властей предержащих всегда были тем зеркалом, с помощью которого претворялся в жизнь образ того или иного «порядка». Калейдоскоп следует непременно разбить.
Могила как тёмный чулан, в котором Эрос и Секс улаживают свой застарелый спор.
У Бодлера звёзды являют собой мистифицированный образ товара. Они суть самоповторение, воплощённое в огромных массах.
Обесценивание мира вещей в аллегории не поспевает за обесцениванием товара в самом мире вещей.
Можно сказать, что счастье пробирало его насквозь; про несчастье такого не скажешь. В естественном состоянии несчастье в нас не проникает.
Spleen — это ощущение перманентной катастрофы.
Ход истории, каким он отражается в катастрофическом сознании, занимает мыслящего человека не более, чем калейдоскоп в детских руках, в котором при каждом вращении прежний порядок осыпается, чтобы образовать новый. Этот образ вполне правомерен. Представления властей предержащих всегда были тем зеркалом, с помощью которого претворялся в жизнь образ того или иного «порядка». Калейдоскоп следует непременно разбить.
Могила как тёмный чулан, в котором Эрос и Секс улаживают свой застарелый спор.
У Бодлера звёзды являют собой мистифицированный образ товара. Они суть самоповторение, воплощённое в огромных массах.
Обесценивание мира вещей в аллегории не поспевает за обесцениванием товара в самом мире вещей.
9. Невроз производит в сфере психической экономии товар массового потребления, принимающий там форму навязчивой идеи. В домашнем хозяйстве невротика она предстаёт в бессчётном количестве экземпляров как нечто совершенно равное себе. Напротив, у Бланки формой навязчивой идеи становится сама мысль о вечном возвращении.
Мысль о вечном возвращении превращает само историческое событие в товар массового потребления. Однако эта концепция также и в другом отношении (можно сказать: на обратной своей стороне) несёт отпечаток экономической ситуации, которой она обязана своей внезапно возникшей актуальностью. Эта последняя дала о себе знать в тот момент, когда обеспеченность жизненных условий в результате стремительной череды кризисов начала резко падать. Мысль о вечном возвращении приобрела свой блеск благодаря тому, что стало уже не обязательно непременно ожидать повторения прежних ситуаций в сроки более короткие, чем те, что могла предложить вечность. Повторение бытовых констелляций наступает всё реже и реже, и это может вызвать смутное ощущение, что в дальнейшем придётся довольствоваться констелляциями космическими. Иначе говоря, привычка начала понемногу сдавать свои позиции. Ницше сказал: «Я люблю короткие привычки», и уже Бодлер за всю свою жизнь не сумел усвоить прочных привычек.
Мысль о вечном возвращении превращает само историческое событие в товар массового потребления. Однако эта концепция также и в другом отношении (можно сказать: на обратной своей стороне) несёт отпечаток экономической ситуации, которой она обязана своей внезапно возникшей актуальностью. Эта последняя дала о себе знать в тот момент, когда обеспеченность жизненных условий в результате стремительной череды кризисов начала резко падать. Мысль о вечном возвращении приобрела свой блеск благодаря тому, что стало уже не обязательно непременно ожидать повторения прежних ситуаций в сроки более короткие, чем те, что могла предложить вечность. Повторение бытовых констелляций наступает всё реже и реже, и это может вызвать смутное ощущение, что в дальнейшем придётся довольствоваться констелляциями космическими. Иначе говоря, привычка начала понемногу сдавать свои позиции. Ницше сказал: «Я люблю короткие привычки», и уже Бодлер за всю свою жизнь не сумел усвоить прочных привычек.
10. На крестном пути меланхолика аллегории суть остановки. Место скелета в эротологии Бодлера? L'élégance sans nom de l'humaine armature (фр. «Безымянная элегантность человеческого остова»).
Импотенция — это основа крестного пути мужской сексуальности. Исторический перечень этапов этой импотенции. Из этой импотенции вырастает его привязанность к ангелическому женскому образу и его фетишизм. Указание на точность и определённость явления женщины у Бодлера. Келлеровский «грех поэта»: «Измыслить женщины сладостный образ / Какого не сыщешь на горькой земле» — всё это, конечно, чуждо Бодлеру. Женские образы Келлера сладостны, как химеры, поскольку он проецировал на них свою импотенцию.
Бодлер в своих женских образах более точен, иными словами — более француз, потому что у него никогда не сходятся фетишистский и ангелический элементы, как у Келлера.
Социальная основа импотенции: фантазия буржуазного класса больше не интересуется будущим высвобожденных ею производительных сил. (Ср. её классические утопии с утопиями середины XIX века.) Чтобы и дальше быть в состоянии заниматься этим будущим, буржуазия должна была бы первым делом отказаться от идеи пенсии. В своей работе об Эдуарде Фуксе я показал, как специфический «уют» середины века соотносится с этим прекрасно объяснимым параличом фантазии. В сравнении с образами будущего, создаваемыми этой общественной фантазией, желание иметь детей, вероятно, меньше стимулирует потенцию. Как бы то ни было, теория Бодлера о ребёнке как о наиболее близком к péché originеl (фр. первородный грех) выдаёт довольно много.
Импотенция — это основа крестного пути мужской сексуальности. Исторический перечень этапов этой импотенции. Из этой импотенции вырастает его привязанность к ангелическому женскому образу и его фетишизм. Указание на точность и определённость явления женщины у Бодлера. Келлеровский «грех поэта»: «Измыслить женщины сладостный образ / Какого не сыщешь на горькой земле» — всё это, конечно, чуждо Бодлеру. Женские образы Келлера сладостны, как химеры, поскольку он проецировал на них свою импотенцию.
Бодлер в своих женских образах более точен, иными словами — более француз, потому что у него никогда не сходятся фетишистский и ангелический элементы, как у Келлера.
Социальная основа импотенции: фантазия буржуазного класса больше не интересуется будущим высвобожденных ею производительных сил. (Ср. её классические утопии с утопиями середины XIX века.) Чтобы и дальше быть в состоянии заниматься этим будущим, буржуазия должна была бы первым делом отказаться от идеи пенсии. В своей работе об Эдуарде Фуксе я показал, как специфический «уют» середины века соотносится с этим прекрасно объяснимым параличом фантазии. В сравнении с образами будущего, создаваемыми этой общественной фантазией, желание иметь детей, вероятно, меньше стимулирует потенцию. Как бы то ни было, теория Бодлера о ребёнке как о наиболее близком к péché originеl (фр. первородный грех) выдаёт довольно много.
11. Поведение Бодлера на литературном рынке: благодаря своей глубокой искушённости в природе товара Бодлер оказался способным или вынужденным признать рынок как объективную инстанцию (ср. его «Советы молодым литераторам»). Тесные взаимоотношения с редакциями держали его в непрерывном контакте с рынком. Его приёмы — диффамация и contrefaçon (фр. подделка). Бодлер, возможно, был первым, кто понял смысл рыночной оригинальности, выделявшейся в то время на фоне других оригинальностей именно благодаря своей «рыночности» — créer un poncif (фр. создать трафарет, шаблон, штамп). Эта création (фр. творческая модель) предполагает известную нетерпимость. Бодлеру нужно было расчистить место для своих стихов, а для этого приходилось потеснить другие. Он обесценил известные поэтические свободы романтиков своими классически выверенными александринами, а классическую поэтику — столь характерными для него интонационными изломами и пустотами внутри классического стиха. Говоря короче, его стихи были оснащены особыми инструментами для вытеснения конкурирующей поэзии.
Замыслом Бодлера было выявить особую ауру товара. Он стремился гуманизировать товар на героический лад
13. В лице Бодлера поэт впервые выдвинул притязания на обладание выставочной стоимостью. Бодлер стал своим собственным импресарио. Perte d'auréole затронула в первую очередь поэтов. Отсюда его мифомания.
Обстоятельные теоремы, которыми оформили l'art pour l'art не только его тогдашние (не говоря о сегодняшних) защитники, но прежде всего авторы истории литературы, целиком сводятся к следующему утверждению: чувствительность — вот истинный предмет поэзии. Чувствительность по самой своей природе страдательна. Если свою высшую конкретность и содержательную определённость она обретает в эротике, то своего абсолютного осуществления и тем самым преображения она достигает в страсти. Поэтика l'art pour l'art безущербно перешла в поэтическую страсть Fleurs du mal.
Восхождение на Голгофу в местах остановок украшено цветами. Цветами зла.
Всё затронутое аллегорической интенцией изымается из жизненных связей: оно разбивается и в то же время консервируется. Аллегория цепко держится за обломки. Она являет образ застывшей тревоги. Деструктивному импульсу у Бодлера нет никакого дела до того, что объект его приложения терпит ущерб.
Рассказ о заблудившемся — это совсем не то, что блуждающий рассказ.
Attendre c'est la vie (фр. ожидание — это жизнь) Виктора Гюго — это мудрость изгнания.
Новая безутешность Парижа (ср. место о могильщиках) составляет существенный момент образа эпохи модерна (ср. Вейо D 2,2).
Обстоятельные теоремы, которыми оформили l'art pour l'art не только его тогдашние (не говоря о сегодняшних) защитники, но прежде всего авторы истории литературы, целиком сводятся к следующему утверждению: чувствительность — вот истинный предмет поэзии. Чувствительность по самой своей природе страдательна. Если свою высшую конкретность и содержательную определённость она обретает в эротике, то своего абсолютного осуществления и тем самым преображения она достигает в страсти. Поэтика l'art pour l'art безущербно перешла в поэтическую страсть Fleurs du mal.
Восхождение на Голгофу в местах остановок украшено цветами. Цветами зла.
Всё затронутое аллегорической интенцией изымается из жизненных связей: оно разбивается и в то же время консервируется. Аллегория цепко держится за обломки. Она являет образ застывшей тревоги. Деструктивному импульсу у Бодлера нет никакого дела до того, что объект его приложения терпит ущерб.
Рассказ о заблудившемся — это совсем не то, что блуждающий рассказ.
Attendre c'est la vie (фр. ожидание — это жизнь) Виктора Гюго — это мудрость изгнания.
Новая безутешность Парижа (ср. место о могильщиках) составляет существенный момент образа эпохи модерна (ср. Вейо D 2,2).
17. К числу загадочных сущностей, впервые захваченных проституцией вместе с большим городом, принадлежит масса. Проституция открывает возможность мифического причастия к массе. Но возникновение массы совпадает по времени с развитием массового производства. Вместе с тем проституция, кажется, предоставляет возможность как-то продержаться в жизненном пространстве, где предметы первой необходимости постепенно становятся товаром массового потребления. Проституция в больших городах саму женщину делает товаром массового потребления. Это абсолютно новая примета жизни большого города, придающая бодлеровскому пониманию догмата о первородном грехе его истинный смысл. И как раз древнейшее понятие казалось Бодлеру достаточно испытанным, чтобы отразить совершенно новый, обескураживающий феномен.
Лабиринт — это родина колеблющихся. Путь тех, кто не осмеливается дойти до цели, легко сворачивается в лабиринт. То же самое происходит с половым влечением в эпизодах, предшествующих его удовлетворению. Но то же — и с человечеством (классами), которое не желает знать, к чему всё идёт.
Если фантазия есть то самое, что устанавливает соответствия внутри воспоминания, то мысль посвящает ему аллегории. Воспоминание сводит то и другое воедино.
Лабиринт — это родина колеблющихся. Путь тех, кто не осмеливается дойти до цели, легко сворачивается в лабиринт. То же самое происходит с половым влечением в эпизодах, предшествующих его удовлетворению. Но то же — и с человечеством (классами), которое не желает знать, к чему всё идёт.
Если фантазия есть то самое, что устанавливает соответствия внутри воспоминания, то мысль посвящает ему аллегории. Воспоминание сводит то и другое воедино.
20. Предметный мир, окружающий человека, всё решительней оборачивается товаром. Одновременно с этим реклама начинает маскировать товарный характер вещей. Ложному преображению мира товаров противодействует его искажение в аллегорическом. Товар пытается заглянуть себе в лицо. Его вочеловечение торжествует в персоне проститутки.
Следует наглядно показать, как изменилось функционирование аллегории с приходом товарной экономики. Замыслом Бодлера было — выявить особую ауру товара. Он стремился гуманизировать товар на героический лад. Этому его намерению соответствовало одновременное стремление буржуазии очеловечить товар сентиментальным образом: предоставить ему дом, как человеку. Надеялись достичь этого с помощью коробочек, чехлов и футляров, которые в то время служили укрытием для домашних вещей буржуа.
Аллегория у Бодлера несёт на себе — в отличие от барочной — черты сдерживаемой ярости, необходимой, чтобы прорваться в этот мир и разнести в щепы его гармонические конструкции.
Героическое у Бодлера — это возвышенная, сплин — низменная форма демонического. Правда, обе эти категории его «эстетики» должны быть дешифрованы. Нельзя оставлять их как есть. Близость героического начала к античной латыни.
Следует наглядно показать, как изменилось функционирование аллегории с приходом товарной экономики. Замыслом Бодлера было — выявить особую ауру товара. Он стремился гуманизировать товар на героический лад. Этому его намерению соответствовало одновременное стремление буржуазии очеловечить товар сентиментальным образом: предоставить ему дом, как человеку. Надеялись достичь этого с помощью коробочек, чехлов и футляров, которые в то время служили укрытием для домашних вещей буржуа.
Аллегория у Бодлера несёт на себе — в отличие от барочной — черты сдерживаемой ярости, необходимой, чтобы прорваться в этот мир и разнести в щепы его гармонические конструкции.
Героическое у Бодлера — это возвышенная, сплин — низменная форма демонического. Правда, обе эти категории его «эстетики» должны быть дешифрованы. Нельзя оставлять их как есть. Близость героического начала к античной латыни.
Проститутка, фотография Эжена Атже
27. Героическая осанка Бодлера,возможно, имеет ближайшее родство с ницшевской. Хотя Бодлер крепко держится за католицизм, всё же его опыт отношений с универсумом в точности соответствует опыту Ницше, выраженному во фразе «Бог умер».
Источники, питающие героизм в осанке Бодлера, вырываются из глубочайшего основания общественного порядка, зародившегося в середине века. Источники эти состоят не в чём ином, как в том опыте, благодаря которому Бодлер осознал решительные изменения в условиях художественного производства. Эти изменения свелись к тому, что в художественном творении более непосредственно и стремительно, чем когда бы то ни было, проступает форма товара, а в публике — форма массы. И главным образом именно эти изменения впоследствии, наряду с другими переменами в области искусства, вызвали упадок лирической поэзии. Fleurs du mal несут на себе особую печать: Бодлер ответил на указанные изменения именно стихотворным сборником. К тому же эти стихи явились самым выдающимся образцом героизма, какой только можно найти в жизни Бодлера.
L'appareil sanglant de la destruction (фр. «кровавый механизм разрушения»)— это повсюду разбросанная домашняя утварь, которая — во внутренних покоях бодлеровской поэзии — лежит у ног проститутки, унаследовавшей все полномочия барочной аллегории.
Источники, питающие героизм в осанке Бодлера, вырываются из глубочайшего основания общественного порядка, зародившегося в середине века. Источники эти состоят не в чём ином, как в том опыте, благодаря которому Бодлер осознал решительные изменения в условиях художественного производства. Эти изменения свелись к тому, что в художественном творении более непосредственно и стремительно, чем когда бы то ни было, проступает форма товара, а в публике — форма массы. И главным образом именно эти изменения впоследствии, наряду с другими переменами в области искусства, вызвали упадок лирической поэзии. Fleurs du mal несут на себе особую печать: Бодлер ответил на указанные изменения именно стихотворным сборником. К тому же эти стихи явились самым выдающимся образцом героизма, какой только можно найти в жизни Бодлера.
L'appareil sanglant de la destruction (фр. «кровавый механизм разрушения»)— это повсюду разбросанная домашняя утварь, которая — во внутренних покоях бодлеровской поэзии — лежит у ног проститутки, унаследовавшей все полномочия барочной аллегории.
39. Мистификация у Бодлера — апотропеическая магия, сродни лжи проститутки.
Во многих его стихотворениях самые великолепные места приходятся на самое начало, на позицию как бы наибольшей новизны. Это было уже неоднократно замечено.
Бодлер всегда держал перед глазами массовый товар как образец. Его «американизм» зиждился на этом прочнейшем фундаменте. Он хотел выпустить некий poncif. Леметр подтвердил, что это ему удалось.
Товар занял место аллегорической формы созерцания.
В том образе, который проституция привнесла в большой город, женщина выступает не просто как товар, но — в полном смысле — как товар массового производства. Об этом говорит нарочитая смена её облика — индивидуально-выразительного на профессиональный: выразительность теперь реализуется в косметике. Что именно этот аспект проститутки был сексуально определяющим для Бодлера, об этом не в последнюю очередь свидетельствует то, что антуражем многочисленных проституток в его стихах чаще всего бывает улица, но не бордель.
Во многих его стихотворениях самые великолепные места приходятся на самое начало, на позицию как бы наибольшей новизны. Это было уже неоднократно замечено.
Бодлер всегда держал перед глазами массовый товар как образец. Его «американизм» зиждился на этом прочнейшем фундаменте. Он хотел выпустить некий poncif. Леметр подтвердил, что это ему удалось.
Товар занял место аллегорической формы созерцания.
В том образе, который проституция привнесла в большой город, женщина выступает не просто как товар, но — в полном смысле — как товар массового производства. Об этом говорит нарочитая смена её облика — индивидуально-выразительного на профессиональный: выразительность теперь реализуется в косметике. Что именно этот аспект проститутки был сексуально определяющим для Бодлера, об этом не в последнюю очередь свидетельствует то, что антуражем многочисленных проституток в его стихах чаще всего бывает улица, но не бордель.
40. Очень важно, что «новое» у Бодлера ни в коей мере не способствует прогрессу. Да и вообще едва ли у Бодлера можно найти сколько-нибудь серьёзную попытку осмыслить идею прогресса. Именно «веру в прогресс» он с ненавистью изобличает — не просто как житейскую ошибку, но как ересь, как ложное учение. Бланки, со своей стороны, не выказывает никакой ненависти к вере в прогресс, он тихо над ней посмеивается. Никак нельзя утверждать, что тем самым он изменяет своему политическому кредо. Деятельность профессионального заговорщика, такого, как Бланки, совершенно не предполагает веры в прогресс — но главным образом решимость устранить современную несправедливость. Эта решимость выхватить человечество в последнюю минуту из-под всегда на него надвигающейся катастрофы как раз для Бланки является определяющей — больше, чем для любого другого политика-революционера его времени. Он всегда избегал строить планы относительно того, что придёт «потом». Всему этому весьма сродни поведение Бодлера в 1848 году.
Перевод книги: Александр Ярин
Заглавная картинка: фотография Эжена Атже
Заглавная картинка: фотография Эжена Атже