Текст: Катя Прокудина
Фотографии: Андрей Носков
Фотографии: Андрей Носков
Достучаться за два года
Cооснователь проекта «Учитель для России» Алена Маркович — о том, как менять отношение к школе
«Теории и практики» поговорили с Аленой Маркович — одной из основателей программы «Учитель для России», на которой готовят учителей нового формата и отправляют их на два года работать в небольшие городские или сельские школы. Алена рассказала T&P, как там относятся к экспериментам, почему дети привыкают к авторитарным преподавателям, что может удержать в маленьком городе учителя, которого зовут работать в лучшие школы Москвы, и как, работая со школьниками, можно изменить жизнь в российских регионах.
Программа «Учитель для России» запустилась в 2015 году и работает по модели Teach for All, которая действует более чем в 40 странах. Суть идеи в том, что выпускники престижных вузов или успешные в другой профессии люди после короткого обучения на два года становятся учителями в обычных школах (многие из них сельские). Потом большинство из них и дальше работают в образовании.
Сейчас в российском проекте 44 школы в Калужской, Тамбовской, Воронежской, Новгородской и Московской областях. Все два года кроме учительской зарплаты (в среднем от 8000 до 18 000 рублей — зависит от региона), участники получают стипендию 20 000 рублей (тем, кто переехал и снимает жилье, еще выплачивают компенсацию 15 000 рублей).
Попасть в программу может любой, у кого есть высшее образование (не обязательно педагогическое) и кто прошел конкурс. Перед тем, как выйти на работу в школу, все они проходят пятинедельный интенсив — Летний институт — который устраивают специалисты Высшей школы экономики. Дальше их поддерживает куратор, у них есть ежемесячные сессии, лекции, занятия с методистами. По итогам они защищают свой проект и получают диплом о профессиональной переподготовке Института образования НИУ ВШЭ. Еще у выпускников есть возможность получить грант на запуск своего образовательного проекта.
Сейчас в российском проекте 44 школы в Калужской, Тамбовской, Воронежской, Новгородской и Московской областях. Все два года кроме учительской зарплаты (в среднем от 8000 до 18 000 рублей — зависит от региона), участники получают стипендию 20 000 рублей (тем, кто переехал и снимает жилье, еще выплачивают компенсацию 15 000 рублей).
Попасть в программу может любой, у кого есть высшее образование (не обязательно педагогическое) и кто прошел конкурс. Перед тем, как выйти на работу в школу, все они проходят пятинедельный интенсив — Летний институт — который устраивают специалисты Высшей школы экономики. Дальше их поддерживает куратор, у них есть ежемесячные сессии, лекции, занятия с методистами. По итогам они защищают свой проект и получают диплом о профессиональной переподготовке Института образования НИУ ВШЭ. Еще у выпускников есть возможность получить грант на запуск своего образовательного проекта.
— Изменились ли за три года вашей работы школы, которые участвуют в программе?
— Они меняются постепенно. Все говорят про то, что образование должно меняться, а для того, чтобы оно менялось, учителя должны работать как-то по-другому. Но этому надо учить, нужны какие-то конкретные практические инструменты. Вот это мы нашим учителям даем, они это приносят в школу. Там видят, что приходят какие-то новые люди — часто другие, из другого культурного контекста. Допустим, это сельская школа, а тут какой-то городской, да еще из Москвы, зачем он вообще сюда приехал. Реакция бывает разная: кого-то сразу принимают как своего, а кого-то воспринимают с недоверием. Но потом присматриваются и если видят, что человек делает что-то странное, но это приносит результат, то им тоже так хочется, и постепенно это становится уже общим местом в школе.
— Они меняются постепенно. Все говорят про то, что образование должно меняться, а для того, чтобы оно менялось, учителя должны работать как-то по-другому. Но этому надо учить, нужны какие-то конкретные практические инструменты. Вот это мы нашим учителям даем, они это приносят в школу. Там видят, что приходят какие-то новые люди — часто другие, из другого культурного контекста. Допустим, это сельская школа, а тут какой-то городской, да еще из Москвы, зачем он вообще сюда приехал. Реакция бывает разная: кого-то сразу принимают как своего, а кого-то воспринимают с недоверием. Но потом присматриваются и если видят, что человек делает что-то странное, но это приносит результат, то им тоже так хочется, и постепенно это становится уже общим местом в школе.
— А каким должен быть результат? Последнее время в школах все измеряется баллами на ЕГЭ.
— Изначально у нас, наверное, даже был перекос — мы не думали про так называемые академические результаты. Но потом поняли, что без этого тоже нельзя. Вопрос, наверное, в каком-то правильном балансе. Для нас суперважный результат — чтобы ребенок хотел учиться, чтобы он хотел приходить в школу и, выходя с уроков, не думал: "Слаба богу, это закончилось", а хотел бы узнать и сделать больше.
У нас сформулирована целая рамка целеполагания для учителей. Там есть несколько составляющих, на которые мы ориентируемся. Это академические результаты — важно, чтобы ребенок научился учиться. Еще есть такая большая категория как субъектность — очень бы хотелось, чтобы ребенок выпускался из школы с пониманием, кто он, что ему нравится, что у него получается, а что не получается, чего он хочет, какие у него цели (чего хочет он сам, а не кто-то, кто сказал, что надо идти в вуз или техникум или вообще никуда не идти). И еще то, что мы называем осведомленностью, — насколько человек в принципе понимает, что происходит в мире, в каком контексте он живет и как это на него влияет.
У нас сформулирована целая рамка целеполагания для учителей. Там есть несколько составляющих, на которые мы ориентируемся. Это академические результаты — важно, чтобы ребенок научился учиться. Еще есть такая большая категория как субъектность — очень бы хотелось, чтобы ребенок выпускался из школы с пониманием, кто он, что ему нравится, что у него получается, а что не получается, чего он хочет, какие у него цели (чего хочет он сам, а не кто-то, кто сказал, что надо идти в вуз или техникум или вообще никуда не идти). И еще то, что мы называем осведомленностью, — насколько человек в принципе понимает, что происходит в мире, в каком контексте он живет и как это на него влияет.
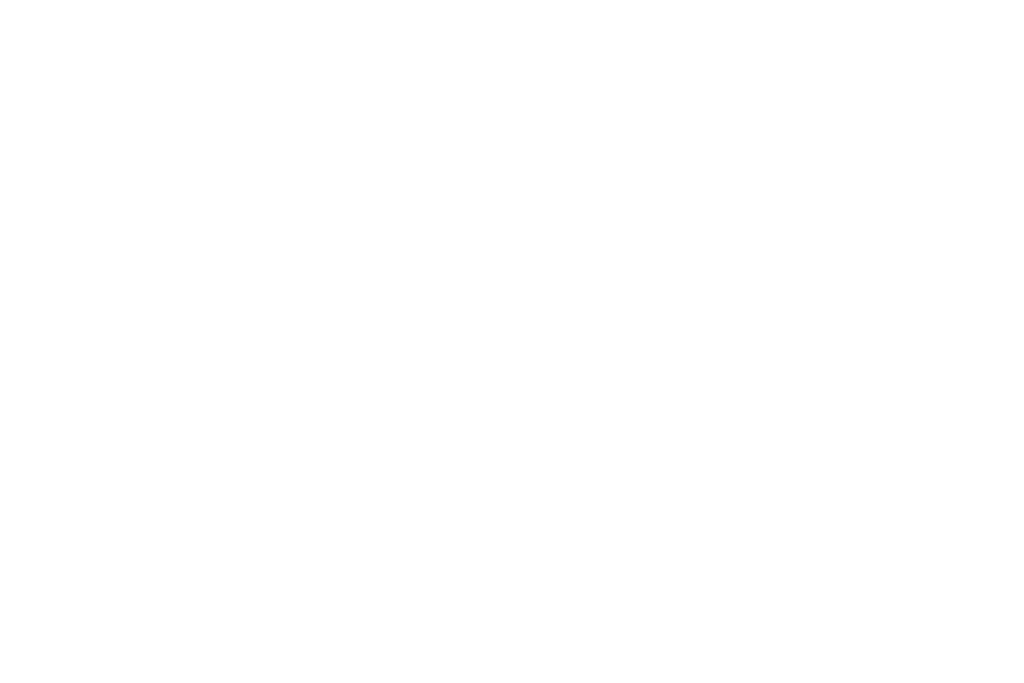
— Но часто говорят, что в школе такая большая нагрузка по программе, что учителям не хватает времени или сил заниматься чем-то помимо самих предметов.
— Это и есть изменения, к которым мы бы хотели прийти. Уроки так или иначе останутся — я надеюсь, они будут приобретать какую-то другую форму, но это всего лишь формат. Вопрос в том, как используется время. Как можно развивать субъектность на уроке математики? Например, приучать детей задавать вопросы или задавать вопросы им и давать время, чтобы они правда придумали свой ответ. Это не какой-то космос — скорее просто установка на то, через какие инструменты я преподаю предмет, как я работаю с ребенком,как реагирую на его ошибку. Если я хочу, чтобы ребенок понимал, что у него получается хорошо, а что плохо, то когда я ставлю оценку — я ее ставлю не из серии "молодец, пять" или "ужас, два", а говорю ему: "Давай посмотрим, какой у тебя здесь прогресс или почему у тебя сейчас не получилось".
— Дети это воспринимают? Мне кажется, детям тоже часто проще, когда им говорят, что правильно, а что нет, что хорошо, а что плохо, а они пытаются соответствовать. Особенно если это не старшие классы — у вас же, я так понимаю, в основном средние?
— Да, мы стараемся не работать в 10-11 классах (хотя точечно все равно учителям их дают), потому что там уже такой упор на ЕГЭ, что по объективным причинам это не место для экспериментов.
Конечно, детям сложно. Сейчас мы уже к этому привыкли, но сначала у нас и у наших учителей был полный шок: когда они не кричали на детей, не ставили двойки как наказание, не грозились кого-то отвести к директору — дети сами стали этого просить. Они говорят: "Ну, покричите уже на нас, успокойте нас, соберите дневники". То есть советуют учителю, что в этой ситуации можно сделать, потому что они привыкли к такой модели поведения. Наша выпускница из первого набора Марина Кудасова написала про это выпускную работу. У нее все началось с того, что она устроила день самоуправления. И когда ее дети выходили к доске в роли учителя, они вели себя как полнейшие авторитарные чуваки — орали и строили всех. То есть у них представление, что учитель — это вот это. Она была в ужасе и поставила себе цель эту модель поменять. И, в общем, у нее это получилось. Но дети год испытывали ее на прочность. Это была очень сложная школа: там даже были случаи, когда дети кончали жизнь самоубийством.
Конечно, детям сложно. Сейчас мы уже к этому привыкли, но сначала у нас и у наших учителей был полный шок: когда они не кричали на детей, не ставили двойки как наказание, не грозились кого-то отвести к директору — дети сами стали этого просить. Они говорят: "Ну, покричите уже на нас, успокойте нас, соберите дневники". То есть советуют учителю, что в этой ситуации можно сделать, потому что они привыкли к такой модели поведения. Наша выпускница из первого набора Марина Кудасова написала про это выпускную работу. У нее все началось с того, что она устроила день самоуправления. И когда ее дети выходили к доске в роли учителя, они вели себя как полнейшие авторитарные чуваки — орали и строили всех. То есть у них представление, что учитель — это вот это. Она была в ужасе и поставила себе цель эту модель поменять. И, в общем, у нее это получилось. Но дети год испытывали ее на прочность. Это была очень сложная школа: там даже были случаи, когда дети кончали жизнь самоубийством.
— И за два года в такой школе можно что-то изменить?
— За два года можно достучаться до ребенка и показать ему альтернативу — это 100%. В этом случае, правда, было тяжело. Там были очень сложные кейсы. Один из моих любимых форматов, которые сложились у нас в сообществе — детская конференция "Мысли вслух": мы предлагаем детям в формате TED говорить о самом важном для них. Они сами выбирают тему, мы приглашаем родителей, учителей, им тоже предлагаем высказаться, а детям донести свои мысли до взрослых. И вот эти ребята рассказывали про проблемы насилия над детьми и что можно с этим сделать. Это и есть развитие субъектности — в школе на уроке через такие практики можно показывать ребенку, что у него есть голос, помогать ему осознавать проблему и что-то с ней делать.
— Это такие сложные ситуации. А ваши учителя, как я понимаю, приходят в класс по сути после пяти недель интенсивного тренинга, не имея никакого опыта до этого?
— Сейчас уже по-разному — у нас изменилось понимание того, кто такой хороший учитель. Люди, которые запускали этот проект, в частности я — не знаю, к счастью или к сожалению, — имели разное отношение к образованию, но именно в школе не работали. Кроме того, мы все из больших городов. И у нас было такое представление, что надо захантить самых умных и красивых, отвести в школы и они там разберутся, что надо делать. Сейчас наши представления сильно изменились, потому что бывает такое, что выпускница сельской школы, которая окончила местный педвуз, легко проходит наш отбор, а выпускница психологического факультета МГУ говорит такие вещи, что хочется просто заплакать и убежать. Понятно, что все равно хороший вуз — это хороший фильтр, тем не менее у нас сейчас есть совершенно разные люди. Есть ребята, которые окончили школы, с которыми мы работаем, и хотят сделать так, чтобы в их школе или в таких школах, как у них, было лучше. Есть московская аристократия, как я их называю — они учились и воспитывались совсем в другой среде и часто удивляются, что, оказывается, есть совершенно другая жизнь. Есть люди совсем зрелые, лет 35-40, они делали осознанную карьеру в бизнесе, потом решили полностью поменять свой вектор. Есть несколько завучей. Мы всегда открывали набор и для действующих учителей наших школ, но раньше они смотрели немного с опасением. Сейчас они видят, что эта программа дает, им тоже хочется всего этого — сообщества, новых инструментов, поддержки — и они приходят к нам. Поэтому у нас такой микс и, мне кажется, это как раз дает какую-то полную картину: и местный контекст, и лучшие школы Москвы, и люди с совершенно другим профессиональным опытом, и совсем молодые, и взрослые — работают вместе в команде.
— То есть они попадают в разные школы, но в течение всех двух лет общаются между собой и делятся опытом?
— Да, "Учитель для России" — это для них прежде всего профессиональное сообщество, в котором они могут вместе что-то придумывать, поддерживать друг друга. Во-первых, мы распределяем людей в школы командами (хотя у нас есть и малокоплектные школы, где по одному человеку от программы, но есть школы, где от нас 8 человек), во-вторых, у них есть куратор, который оказывает им поддержку, у нас есть серия региональных встреч. В общем, есть много всего, чтобы люди осознавали себя именно командой — в школе, в регионе, в разных регионах.
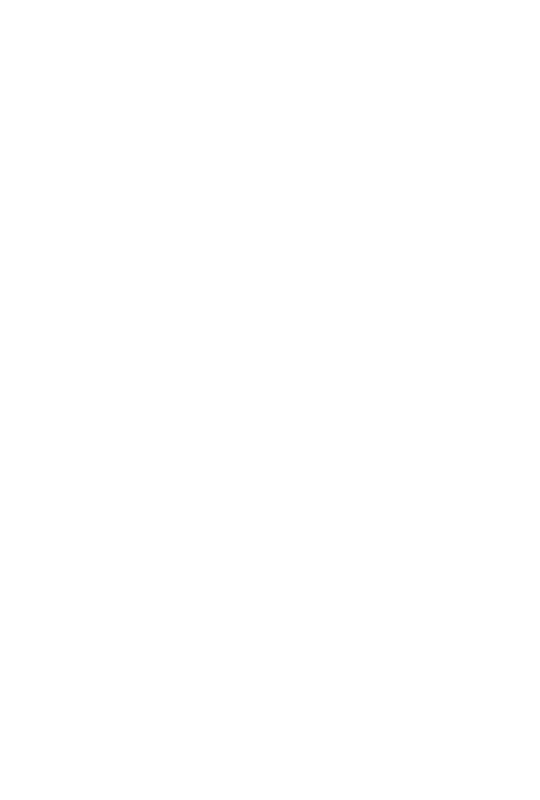
— Насколько это закрытое сообщество? Не получается так, что они замыкаются в своей группе, когда приходят в школу, где их еще и встречают с недоверием?
— Изначально оно было закрытым. Мы выходили в школу с не очень правильными установками — что мы какие-то особенные, умные, красивые, сейчас что-то такое придумаем. А потом поняли, что везде есть очень много талантливых, умных людей, которые хотят хорошего и точно так же, как мы, думают, как это сделать. Но просто есть очень много барьеров и элементарно отсутствие времени и какой-то поддержки — того, что есть у нас. Поэтому сейчас мы работаем над собой и участниками, чтобы избавляться от закрытости, потому что это совершенно непродуктивно. Мне кажется, у нас получается. Даже наши школы говорят, что они уже чувствуют себя частью этого сообщества. Не все конечно, но многие.
И мы стали больше работать с ними. Сейчас у нас есть регулярные встречи, на которые мы собираем коллег из школ-партнеров и рассказываем, что происходит в программе, что мы делаем с участниками, у нас есть какие-то совместные обучающие сессии, чтобы мы все были в общем информационном поле, чтобы для них это было какое-то вдохновение, потому что вдохновения им очень не хватает.
И мы стали больше работать с ними. Сейчас у нас есть регулярные встречи, на которые мы собираем коллег из школ-партнеров и рассказываем, что происходит в программе, что мы делаем с участниками, у нас есть какие-то совместные обучающие сессии, чтобы мы все были в общем информационном поле, чтобы для них это было какое-то вдохновение, потому что вдохновения им очень не хватает.
— Среди учителей не вызывает отторжение то, что ваши участники работают на особых условиях? Легко говорить, что ты сейчас тут все изменишь, если тебе доплачивают стипендию, с тобой работают кураторы, а через два года ты уедешь и больше сюда не вернешься, потому что у тебя есть много других возможностей. А им там и дальше работать.
— Да, конечно, такое отношение есть. Но как показывает практика, если люди видят, что человек много работает, вкладывается, может что-то дать детям и школе — что-то новое, чего у них без этого человека не было бы — это проходит. Они постепенно понимают, что человек приехал не для того, чтобы получить стипендию (все-таки есть более легкие способы зарабатывать деньги), а ему ее выплачивают, потому что иначе ему не хватит денег, чтобы снимать жилье.
— Насколько в школах развит эйджизм и что-то подобное среди учителей — есть ли проблемы, связанные с тем, что вы устраиваете в школы молодых учителей?
— Вообще к молодым учителям относятся хорошо. Я бы даже сказала, что лучше, чем к немолодым. То есть тут скорее в обратную сторону есть какая-то обидная ситуация для учителей — программы господдержки в основном для молодых. Потому что молодые в школу не идут, это большая проблема, общепризнанная, про нее все открыто говорят, в отличие от многих других.
Мы, кстати, в итоге поняли, что дело не в возрасте, а в других качествах — важно, насколько человек гибкий, адаптивный, открытый к обучению. И средний возраст у нас растет: сейчас это 27 лет, год назад был 26, а до этого 25.
Мы, кстати, в итоге поняли, что дело не в возрасте, а в других качествах — важно, насколько человек гибкий, адаптивный, открытый к обучению. И средний возраст у нас растет: сейчас это 27 лет, год назад был 26, а до этого 25.
«В нашу программу идут люди, которым важно, чтобы у детей были равные возможности. Им хочется что-то создавать там, где этого нет»
Вообще школы у нас тоже проходят отбор. Важно, чтобы им действительно был нужен наш ресурс, но при этом, чтобы они очень хотели развития и были готовы брать на себя риски, которые связаны с участием в нашей программе. Потому что звучит все очень красиво, но на самом деле приход в школу команды молодых преподавателей без педобразования, еще таких разных — у каждого свои установки и проблемы, все хотят экспериментов — это, правда, огромная головная боль. Школы тоже постепенно учатся с этим работать. И те, которые прошли с нами несколько наборов, уже поняли, что надо делать, чтобы люди нормально интегрировались и приносили пользу. А поначалу это было сложно для всех. Даже в вопросах коммуникации — просто потому что люди из разных культур.
— А как родители воспринимают ваших учителей?
— Тоже по-разному. Родители боятся, что на их детях проводят эксперимент. Мне кажется, сначала, когда приходит кто-то новый, его всегда воспринимают как другого. Здесь важно не устраивать переворот. У нас даже есть отдельный блок на Летнем институте — изучение социального контекста. Вы должны понять, куда вы пришли, познакомиться с людьми, узнать, чем они живут, что для них важно. Если вам кажется, что там что-то работает неправильно, сначала разберитесь, почему — на все есть свои причины. В общем, важно умение не осуждать, а именно понимать и видеть, что там есть хорошего — потому что хорошего тоже очень много. Потом, когда ты уже показал всем, что ты что-то умеешь и можешь дать какую-то дополнительную ценность — в этот момент люди тебя начинают слушать. Но это на самом деле универсальная история — это даже не про школу, а про вход в любую среду, мне кажется.
— Учителя в вашей программе имеют право отказаться от участия?
— Да. Мы для себя решили, что основная ценность нашей программы — то, что мы приводим людей, которые, правда, хотят. Если они не хотят, то у них должна быть возможность уйти. Но мне кажется, у нас так выстроена система отбора — 4 этапа, потом Летний институт, после которого мы тоже оставляем за собой право попрощаться с человеком, и сам человек может уйти, не заплатив нам никаких штрафов, хотя мы потратили кучу денег на его обучение. Плюс они заранее ездят по школам, где будут работать, можно пообщаться с выпускниками, с участниками. То есть они могут собрать столько информации, что у них складывается достаточно глубокое представление о том, на что они идут. И те, кто остается, в основном, доходят до конца. У нас отсеивается в среднем 10%. Но это нормально — это текучка на рабочем месте.
Сначала нужно заполнить онлайн-заявку и подробно рассказать о себе, второй этап — интервью по скайпу. Если оно прошло хорошо, кандидата приглашают на очный тур: он проходит в одной из московских школ, там есть разные задания, по которым специалисты по подбору персонала, представители бизнеса, директора школ и опытные педагоги оценивают, как кандидат справится с работой учителем. Последний этап — собеседование с методистом, на котором проверяется знание предмета.

— А после того как они два года проработали, кто-то хочет остаться?
— Мы для себя составили такую иерархию целей в этом вопросе. Цель-минимум: нам важно, чтобы как можно больше людей оставалось именно в образовании. И в этом смысле у нас все очень хорошо: после первого выпуска вообще все остались, во втором выпуске я вижу, что кроме, может быть, нескольких человек, все хотят дальше заниматься образованием. То есть, если говорить про наши результаты, то как минимум мы за три года привели в образование 300 талантливых людей, которым не все равно. Например, сейчас какой-то бум частных школ в Москве — Летово, Новая школа, Школа Рачевсого, в Петербурге — "Апельсин". И все они в восторге от наших учителей, хантят их, многие пошли работать туда. Один наш выпускник сказал, что у нас роль коммуникатора в образовании: одной ногой в тамбовском селе, другой ногой в лучших экспериментальных школах Москвы.
Более сложная цель — чтобы люди оставались в образовании в регионах, где мы работаем. С этим сложнее. Из второго выпуска у нас по прогнозам останется 35%. Кто-то идет работать в местный методический кабинет, кто-то делает образовательный проект. То есть это может быть не только воздействие через учительство, но и через какие-то другие роли, но важно, чтобы все накопленное знание, понимание, желание — за два года люди созревают и готовы делать что-то качественное — возвращалось в регионы.
И еще сложнее — чтобы люди оставались хотя бы на третий, четвертый год в той же школе, где начинали. С этим, конечно, еще хуже. Сейчас на третий год остается где-то процентов 20%. В первом выпуске есть ребята, которые на четвертый год остаются. То есть цель-минимум выполняется очень хорошо, а как добиться цели-максимум — пока загадка для нас.
Более сложная цель — чтобы люди оставались в образовании в регионах, где мы работаем. С этим сложнее. Из второго выпуска у нас по прогнозам останется 35%. Кто-то идет работать в местный методический кабинет, кто-то делает образовательный проект. То есть это может быть не только воздействие через учительство, но и через какие-то другие роли, но важно, чтобы все накопленное знание, понимание, желание — за два года люди созревают и готовы делать что-то качественное — возвращалось в регионы.
И еще сложнее — чтобы люди оставались хотя бы на третий, четвертый год в той же школе, где начинали. С этим, конечно, еще хуже. Сейчас на третий год остается где-то процентов 20%. В первом выпуске есть ребята, которые на четвертый год остаются. То есть цель-минимум выполняется очень хорошо, а как добиться цели-максимум — пока загадка для нас.
— Получается, все равно Москва перетягивает: когда с одной стороны есть школа Летово, а с другой стороны — простая сельская школа, выбор, видимо, все-таки больше в сторону новых школ и форматов?
— Это правда, это проблема. Я думаю, что ее можно решать, но постепенно. Мы пытаемся осознать, в чем основные барьеры, что должно произойти, чтобы люди хотели остаться в Тамбове или Калуге. Что тревожит наших выпускников, когда они идут работать в эти замечательные школы — то, что они частные, московские, и это совсем не та аудитория детей, за которых болит душа. А все-таки в нашу программу идут люди, которым по какой-то причине важно, чтобы у детей были равные возможности. И с одной стороны, эти школы им очень близки с точки зрения идеи трансформации, эксперимента, новой повестки в образовании, но с другой стороны, многие говорят, что вернулись бы, потому что там они гораздо нужнее.
— Работа со сложными школами — это как раз одна из главных идей вашей программы. Почему вы идете именно туда?
— Мы никогда не говорили, что мы идем в сложные школы — это важно. Мы идем в школы в сложном социальном контексте. Условно, когда школа в центре Москвы — это один контекст, в деревне — совсем другой. И, кстати говоря, от этой формулировки мы тоже попытались уйти, сейчас мы говорим, что мы работаем с массовыми школами. То есть не с нишевыми и элитными, а с обычной среднестатистической школой. Потому что в поездках по стране мы поняли, что то, что нам раньше казалось сложным, на самом деле — просто норма. Такой у нас средний уровень, так мы живем.
Вообще это наша ключевая идеологическая установка — вся эта программа появилась с намерением решать проблему зависимости от того, где и в какой семье ты родился — сейчас это во многом определяет, что ты вообще сможешь себе позволить в жизни. Школа как социальный лифт. У нас есть усложнение — огромная страна и люди из маленьких городов утекают примерно в один город, ну, в лучшем случае в несколько. Надо как-то эту ситуацию менять. Мы пошли туда, где есть возможность заниматься выравниванием шансов детей.
Вообще это наша ключевая идеологическая установка — вся эта программа появилась с намерением решать проблему зависимости от того, где и в какой семье ты родился — сейчас это во многом определяет, что ты вообще сможешь себе позволить в жизни. Школа как социальный лифт. У нас есть усложнение — огромная страна и люди из маленьких городов утекают примерно в один город, ну, в лучшем случае в несколько. Надо как-то эту ситуацию менять. Мы пошли туда, где есть возможность заниматься выравниванием шансов детей.
— Но получается, что ваши школьники потом тоже скорее уедут, потому что через ваших учителей увидят, что бывает другая жизнь.
— Я с вами не согласна. Да, есть некоторые села, где мы работаем, которые, думаю, скоро просто перестанут существовать, там нечего делать: нет производства, нет работы. И наша задача сделать так, чтобы дети, которые там растут, смогли выбраться в другое место и вести нормальную жизнь. Но есть места, где на самом деле есть потенциал. Я, например, как человек, который вырос в одном месте, потом учился в другом, понимаю, что это очень важный обогащающий опыт — куда-то уехать. Но при этом в тот момент, когда ты становишься самодостаточным, понимаешь, что у тебя есть выбор, тебе очень часто хочется вернуться.
— Но не всегда там есть, к чему возвращаться.
— Мне кажется, это как раз то, на что мы работаем: и наши учителя, и программа в целом — про личную ответственность и удовольствие от созидания. Все наши учителя на самом деле пришли в программу, потому что им хочется что-то создавать там, где этого нет. И в этом смысле Москва гораздо менее интересна — тут и так все неплохо. А вот там интересно. Мне кажется, надо развивать в регионе среду — просто это делается не за два года — чтобы люди чувствовали, что там можно многое создавать, и они туда поедут. Но для того, чтобы люди захотели вернуться, у них должен быть выбор. Вот наша программа приводит в школу людей, у которых есть выбор, но они по своему желанию хотят там быть — это самое ценное. Так как дети видят, что наши учителя приехали откуда-то, зачем-то с ними тут работают — их это заражает. У нас такие трогательные истории есть на эту тему. Самое вдохновляющее — когда дети спрашивают: "Сколько еще будет работать ваша программа? Когда я вырасту, я хочу прийти к вам". Но вообще нам просто важно, чтобы ребенок вырос, осознавая свои желания и цели, и получил ту базу, которая бы ему позволила их реализовать — неважно, в Москве, в Америке или у себя.
— По вашему опыту общения с разными школами — насколько трудно найти тех, кто хочет перемен и как много школ, таких массовых, вообще задумываются о переменах?
— Глобально не возьмусь про это судить, но могу сказать, что их точно много. Опять-таки, это, наверное, такой стереотип, что это закостеневшие люди, которые сидят себе и ничего не хотят менять. У меня соверешенно другое впечатление. Более того, у нас есть интересные примеры школ, которые сначала были в резком отрицании всего, а теперь говорят: "давайте сделаем это, проведите у нас это".
«Ключевая проблема — что детям в школе скучно. И это такая ловушка, когда дети не понимают, зачем они там сидят, и взрослые не понимают, зачем они должны сейчас объяснять что-то по предмету»
В общем, мне кажется, все понимают, что надо как-то по-другому, но в школе очень многие учителя чувствуют свое бессилие. Все наши школы говорят, что ключевая проблема — что дети не хотят учиться, они не мотивированы, детям в школе скучно. Они это видят, но не понимают, как это изменить. И от этого у них чувство своей бесполезности и ненужности. И это такая ловушка, когда дети не понимают, зачем они там сидят, и взрослые не понимают, зачем они должны сейчас объяснять что-то по предмету. В тот момент, когда люди начинают понимать, как именно можно по-другому, они готовы это делать.
Хотя не могу сказать за все школы, у нас все-таки есть естественный фильтр. Школы сами подают заявки в программу, это принципиально, мы обсуждаем это со всеми регионами на входе — что в нашу программу нельзя приводить школы насильно указом сверху. Поэтому мы договариваемся с регионом, а после проводим гастрольный тур и рассказываем школам про программу, идею, плюсы и минусы, как это будет, какие могут быть нюансы. Те, кому это не надо, просто не подают заявку.
Хотя не могу сказать за все школы, у нас все-таки есть естественный фильтр. Школы сами подают заявки в программу, это принципиально, мы обсуждаем это со всеми регионами на входе — что в нашу программу нельзя приводить школы насильно указом сверху. Поэтому мы договариваемся с регионом, а после проводим гастрольный тур и рассказываем школам про программу, идею, плюсы и минусы, как это будет, какие могут быть нюансы. Те, кому это не надо, просто не подают заявку.
— А как руководство региона участвует дальше в вашей работе, почему вы договариваетесь через них?
— Регион — это один из наших основных стейкхолдеров. Потому что в конечном итоге то, что происходит со школами, — это во многом ответственность местного министра. Если будут какие-то проблемы, то это будут его проблемы, если успехи, то и его успехи. Поэтому нам очень важно согласовать наше видение: в какую сторону развивать школы, что важно, каких результатов мы хотим, какими темпами.
— Финансово они тоже участвуют?
— Да, это постепенно стало условием "Сбербанка", нашего ключевого партнера. Он выделяет часть финансирования, а регионы выделяют софинансирование на стипендиальную поддержку. У нас стипендии от 20 до 30 тысяч — из них 20 тысяч рублей покрывает регион.
— Некоторые ваши участники рассказывали, что до программы они получали в 10 раз больше, чем зарплата учителя, на которую они пришли. В вашей программе они получают поддержку — в первую очередь финансовую, потому что для учителей это один из самых острых вопросов. Но разве может что-то поменяться глобально, если профессия учителя так оплачивается?
— Это, безусловно, очень острый вопрос, но на самом деле, я думаю, что он на втором месте. На первом месте скорее то, что называется проблемой профессионального одиночества. Учитель сейчас находится в очень слабой позиции со всех сторон. Это человек, на котором огромная ответственность, работа учителем — это огромный эмоциональный труд. Нам часто кажется, что мы работаем на износ, без выходных, все такие уставшие. Но наши выпускники говорят: "Вы работаете на курорте". Правда. Потому что надо отвести 6 уроков в день, когда у тебя сидит 30 разных маленьких людей, каждый со своей сложной историей, которые уже давно забили на все; на тебя наорал кто-нибудь слева и справа; кто-то подрался, кто-то вообще чуть не выпрыгнул из окна. А тебе еще надо дома что-то творческое придумать, быть веселым и не срываться. Это, наверное, одна из самых эмоционально напряженных профессий. К сожалению, люди, как правило, оказываются в ситуации, когда они просто не подготовлены. И самое плохое — часто они сами это понимают. То есть я пришел, хочу тут работать, инструментов у меня нет, поддержки нет, с меня бесконечно требуют результатов, отчетности, у меня нет права на ошибку. Как я могу давать ребенку право на ошибку, когда у меня у самого его нет? Сверху на директора давит начальство, на начальство давит еще начальство. И очень мало свободы для творчества. Многие при этом говорят, что ты закрываешь дверь класса и дальше делаешь все, что считаешь нужным. Но для этого нужна осознанность, это тоже вопрос отношения.
— А в школах по-прежнему есть так называемый двойной отрицательный отбор, когда в педвузы чаще всего попадают те, кто не смог поступить в другие, и потом в школы идут самые слабые выпускники педвузов?
— Я думаю, это очень зависит от региона. По ощущениям, в Москве сейчас ситуация меняется, например. Но, в частности, потому что тут очень приличные зарплаты.
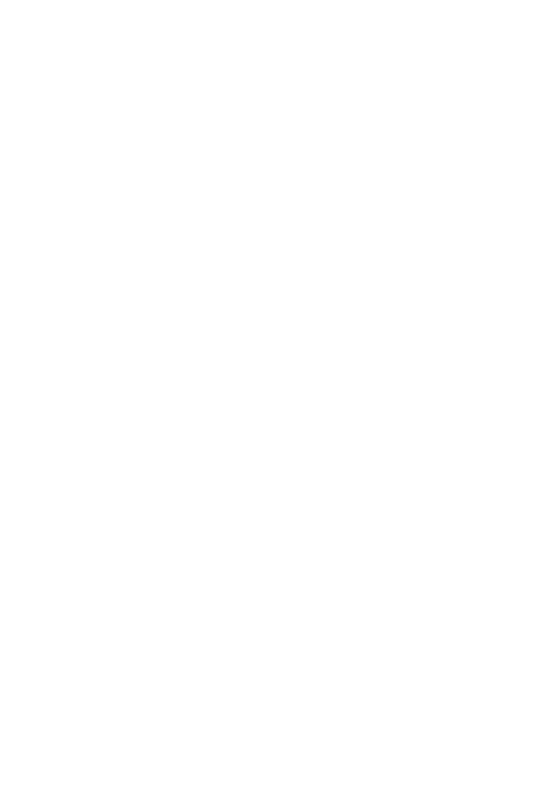
— То есть все-таки многое упирается в зарплату.
— Проблему зарплат, безусловно, надо решать — это огромный барьер. Просто в нее не упирается все. Мы видим это даже по нашим участникам. Вот один из них был готов остаться на третий год в школе. При этом он понимал, как себя обеспечить: у него были идеи проектов, он мог получить грант. Но в тот момент, когда в школе сменилась администрация, всех разогнали, пришла проверка — он сказал, что вот с этим не готов работать.
Я не говорю, что проблемы зарплат нет. Это, мне кажется, какой-то вопрос глобальных приоритетов на уровне страны. Но для меня вообще загадка, как, учитывая то, что все люди были в школе, всем в какой-то момент надо отдавать своих детей туда же, то есть это то, что касается действительно каждого — такое впечатление, что ничего там особо не меняется и при этом мы настолько отдаем ответственность абстрактному государству, которое, на самом деле, без какого-то встречного движения снизу не может эту ситуацию менять.
Я не говорю, что проблемы зарплат нет. Это, мне кажется, какой-то вопрос глобальных приоритетов на уровне страны. Но для меня вообще загадка, как, учитывая то, что все люди были в школе, всем в какой-то момент надо отдавать своих детей туда же, то есть это то, что касается действительно каждого — такое впечатление, что ничего там особо не меняется и при этом мы настолько отдаем ответственность абстрактному государству, которое, на самом деле, без какого-то встречного движения снизу не может эту ситуацию менять.
— А что можно сделать?
— Это, наверное, вопрос про то, что называется гражданским обществом. Например, как родитель, я могу просто очень активно участвовать в жизни школы. Многие сейчас жалуются, что родители и школа перекладывают друг на друга ответственность. Родитель приводит ребенка, ему надо бежать работать и заниматься своими делами, он считает, что все, что происходит в школе — это дело школы: "Это ваша работа — учить его, заниматься с ним, обеспечивать его безопасность". Школа говорит: "Ну, простите, когда ваш ребенок приходит в неадеквате и не может сосредоточиться на учебе, что с ним сделать — если у него такая семья, то мы уже бессильны". На самом деле, конечно, родители и школа должны работать в супер-команде. Это прописано во всех наших стандартах — вопрос, как это делать на практике. Даже у нас в "Учителе для России", где все это понимают, мы сейчас обсуждаем, что не так часто родители приходят в школу, где учатся их дети.
Мне кажется, это какая-то общая ментальная установка — что вот у нас там не работает, потому что кто-то там сделал неправильно. Но школа — это такая большая машина, что надо очень много самых разных людей, которые взяли бы на себя ответственность: и региональное руководство, и бизнес, и родители, и сами дети. Это то, что мы пытаемся развивать в наших детях — чтобы они присваивали себе школьное пространство: если тебе что-то не нравится в школе, сделай по-другому.
Мне кажется, это какая-то общая ментальная установка — что вот у нас там не работает, потому что кто-то там сделал неправильно. Но школа — это такая большая машина, что надо очень много самых разных людей, которые взяли бы на себя ответственность: и региональное руководство, и бизнес, и родители, и сами дети. Это то, что мы пытаемся развивать в наших детях — чтобы они присваивали себе школьное пространство: если тебе что-то не нравится в школе, сделай по-другому.
— Например, что?
— Это могут быть какие-то маленькие вещи из серии "мне не нравится отношения в нашем классе" — они обсуждают, что делать, если случился конфликт. Или "нам не нравится, как устроена школьная дискотека, потому что ее проводят учителя". Ну, давайте придумаем, как ее можно сделать по-другому. Я думаю, только так.
— То есть решить все реформой сверху нельзя?
— Реформа сверху нужна, но нужно и движение снизу. Потому что верх очень далеко и ему надо на что-то опираться. Без людей, которые каждый день работают с детьми, ничего невозможно, какой бы ни была реформа. Вот есть у нас прекрасные образовательные стандарты, прописанные на бумаге, все ими очень гордятся, их писали умнейшие люди от образования. Вопрос в том, как сделать так, чтобы этот чудесный утвержденный стандарт действительно был воплощен на практике. Это была бы совершенно другая школа, другой мир.
— У нас был проект про российскую реформу образования, которую делали в 90-е. Тогда тоже говорили, что у нас принят самый прогрессивный закон об образовании. Но на практике он не работал, а все обещания, которые давали — и про зарплаты, и про имидж профессии учителя, и про поддержку школ — за 10 лет так и не выполнили, они просто переехали в 2000-е. Не очень понятно, сколько нужно времени, чтобы что-то заработало.
— Я думаю, очень много. Вот если говорить, когда будет какой-то системный эффект от того, что мы делаем — думаю, если мы лет 25 будем активно работать и расти такими же темпами, как сейчас, то что-то начнет меняться. Это вопрос поколения: люди, которые зашли сейчас в систему вместе с нами, наверное, лет через 20 станут кем-то значимым. Я надеюсь, что за это время они не растеряют своего запала. И, конечно, это много еще от чего зависит. Это очень долгая перспектива.
Смотрите также

