Текст: Катя Прокудина
Фотографии: Зарина Кодзаева
Фотографии: Зарина Кодзаева
Необучаемость отменили
Директор Центра лечебной педагогики Анна Битова — о том, как учатся люди с особенностями развития
Много лет в России люди с ментальными особенностями считались необучаемыми. Родители не могли устроить детей в школу, а те, кто живет в интернатах, обычно учились по специальным программам, где таблицу умножения проходили примерно в 8-м классе. Последние годы ситуация начала меняться: в законе прописали, что у каждого есть право на образование и любого ребенка можно чему-то научить, что у людей с инвалидностью не ограниченные возможности, а особые образовательные потребности, в школах появилось инклюзивное обучение, принимать туда теперь должны всех. О том, как это все работает на самом деле, «Теории и практики» поговорили с Анной Битовой — директором московского Центра лечебной педагогики, который почти 30 лет занимается проблемами людей с разными нарушениями развития.
Центр лечебной педагогики (ЦЛП) одним из первых в Москве (в 1989 году) начал помогать детям с ментальными особенностями и их семьям. Специалисты объясняют, какая помощь им положена, куда за ней можно обратиться, юристы рассказывают, какие права есть у таких семей, а педагоги помогают составить план занятий дома и получить образование. В Центре есть программы реабилитации для детей и взрослых, с ними занимаются дефектологи, нейропсихологи и психологи, врачи, музыкальные и арт-терапевты, специалисты по двигательному развитию, им помогают волонтеры. Еще ЦЛП проводит курсы, семинары и тренинги для тех, кто работает с людьми, у которых есть ментальные нарушения (не только в Москве, но и в других городах). Эксперты Центра участвуют в обсуждениях и подготовке реформ и законопроектов, которые улучшили бы условия жизни людей с особенностями, а также занимаются проблемами интернатов: входят в общественные комиссии, которые проверяют их работу, помогают тем, кто там находится, защищать свои права, читают лекции для сотрудников.
— До сих пор нередко встречается мнение, что люди, у которых есть какие-то особенности в развитии, труднообучаемы или совсем необучаемы. Как вы отвечаете на это?
Центр лечебной педагогики (ЦЛП) одним из первых в Москве (в 1989 году) начал помогать детям с ментальными особенностями и их семьям. Специалисты объясняют, какая помощь им положена, куда за ней можно обратиться, юристы рассказывают, какие права есть у таких семей, а педагоги помогают составить план занятий дома и получить образование. В Центре есть программы реабилитации для детей и взрослых, с ними занимаются дефектологи, нейропсихологи и психологи, врачи, музыкальные и арт-терапевты, специалисты по двигательному развитию, им помогают волонтеры. Еще ЦЛП проводит курсы, семинары и тренинги для тех, кто работает с людьми, у которых есть ментальные нарушения (не только в Москве, но и в других городах). Эксперты Центра участвуют в обсуждениях и подготовке реформ и законопроектов, которые улучшили бы условия жизни людей с особенностями, а также занимаются проблемами интернатов: входят в общественные комиссии, которые проверяют их работу, помогают тем, кто там находится, защищать свои права, читают лекции для сотрудников.
— Человечество вообще разнообразно. И люди с нарушениями развития тоже абсолютно разные. Есть очень способные, талантливые и высокоинтеллектуальные. Например, некоторые люди с расстройством аутистического спектра прекрасно работают программистами в Кремниевой долине. Бывает, что люди с выраженными нарушениями в развитии при этом талантливые музыканты, художники или поэты.
Но ваш вопрос скорее о людях с тяжелыми множественными нарушениями развития. Его действительно часто задают. Мол, зачем учить человека, который не отвечает на вопросы и не пользуется речью. Страны, подписавшие Конвенцию о правах инвалидов, отвечают на этот вопрос так: учиться должны все. В том числе и потому, что, если вы начнете выяснять, кому учиться имеет смысл, а кому уже нет, вы очень быстро дойдете до фашизма. Образование — это не только знания, но и социальный опыт, и нормализация жизненного маршрута, общение и новые друзья.
Я считаю, что это просто остаток старых представлений. Мне кажется, сейчас мы находимся в какой-то совершенно новой парадигме — большей толерантности. Наверное, конец XX века и XXI век этим отличаются. Мы приняли основополагающие документы, и, если дальше им следовать, многие вещи изменятся. Когда-то люди с черной кожей не могли ездить в том же транспорте, что и люди с белой кожей. Сейчас это кажется дикостью. Думаю, через 50 лет будет казаться дикостью, что ребенок с нарушениями развития не может учиться в том же классе, что без нарушений развития.
Но ваш вопрос скорее о людях с тяжелыми множественными нарушениями развития. Его действительно часто задают. Мол, зачем учить человека, который не отвечает на вопросы и не пользуется речью. Страны, подписавшие Конвенцию о правах инвалидов, отвечают на этот вопрос так: учиться должны все. В том числе и потому, что, если вы начнете выяснять, кому учиться имеет смысл, а кому уже нет, вы очень быстро дойдете до фашизма. Образование — это не только знания, но и социальный опыт, и нормализация жизненного маршрута, общение и новые друзья.
Я считаю, что это просто остаток старых представлений. Мне кажется, сейчас мы находимся в какой-то совершенно новой парадигме — большей толерантности. Наверное, конец XX века и XXI век этим отличаются. Мы приняли основополагающие документы, и, если дальше им следовать, многие вещи изменятся. Когда-то люди с черной кожей не могли ездить в том же транспорте, что и люди с белой кожей. Сейчас это кажется дикостью. Думаю, через 50 лет будет казаться дикостью, что ребенок с нарушениями развития не может учиться в том же классе, что без нарушений развития.
— Человечество вообще разнообразно. И люди с нарушениями развития тоже абсолютно разные. Есть очень способные, талантливые и высокоинтеллектуальные. Например, некоторые люди с расстройством аутистического спектра прекрасно работают программистами в Кремниевой долине. Бывает, что люди с выраженными нарушениями в развитии при этом талантливые музыканты, художники или поэты.
Но ваш вопрос скорее о людях с тяжелыми множественными нарушениями развития. Его действительно часто задают. Мол, зачем учить человека, который не отвечает на вопросы и не пользуется речью. Страны, подписавшие конвенцию о правах инвалидов, отвечают на этот вопрос так: учиться должны все. В том числе и потому, что если вы начнете выяснять, кому учиться имеет смысл, а кому уже нет — вы очень быстро дойдете до фашизма. Образование — это не только знания, но и социальный опыт, и нормализация жизненного маршрута, общение и новые друзья.
Я считаю, что это просто остаток старых представлений. Мне кажется, сейчас мы находимся в какой-то совершенно новой парадигме — большей толерантности. Наверное, конец 20 века и 21 век этим отличаются. Мы приняли основополагающие документы и, если дальше им следовать, многие вещи изменятся. Когда-то люди с черной кожей не могли ездить в том же транспорте, что и люди с белой кожей. Сейчас это кажется дикостью. Думаю, через 50 лет будет казаться дикостью, что ребенок с нарушениями развития не может учиться в том же классе, что без нарушений развития.
Но ваш вопрос скорее о людях с тяжелыми множественными нарушениями развития. Его действительно часто задают. Мол, зачем учить человека, который не отвечает на вопросы и не пользуется речью. Страны, подписавшие конвенцию о правах инвалидов, отвечают на этот вопрос так: учиться должны все. В том числе и потому, что если вы начнете выяснять, кому учиться имеет смысл, а кому уже нет — вы очень быстро дойдете до фашизма. Образование — это не только знания, но и социальный опыт, и нормализация жизненного маршрута, общение и новые друзья.
Я считаю, что это просто остаток старых представлений. Мне кажется, сейчас мы находимся в какой-то совершенно новой парадигме — большей толерантности. Наверное, конец 20 века и 21 век этим отличаются. Мы приняли основополагающие документы и, если дальше им следовать, многие вещи изменятся. Когда-то люди с черной кожей не могли ездить в том же транспорте, что и люди с белой кожей. Сейчас это кажется дикостью. Думаю, через 50 лет будет казаться дикостью, что ребенок с нарушениями развития не может учиться в том же классе, что без нарушений развития.
В документе говорится, что у инвалидов должны быть те же права, что и у остальных (в том числе право на образование и труд) и для этого нужно создавать все условия. Конвенцию приняли в ООН в конце 2006 года (но вступила в силу она только в 2008 году, когда к ней присоединились больше 20 стран). В России ее утвердили в 2012 году. Сейчас она действует в 177 государствах.
— В фильме «Мама, я убью тебя» очень хорошо показано, насколько ограниченны представления о возможностях детей, и скорее даже ограниченно желание понимать эти возможности у самих педагогов, которые работают с детьми в интернате. С тех пор как он был снят, что-то изменилось?
Документальный фильм, который в 2013 году Елена Погребижская сняла про подмосковный коррекционный интернат. У большинства детей там диагноз «олигофрения в степени дебильности», хотя авторы фильма отмечают, что в общении многие не отличаются от своих ровесников. Но учатся там по упрощенной программе, преподаватели уверены, что ничего сложнее дети не потянут, а за плохое поведение их периодически отправляют в психиатрическую больницу. После того, как фильм посмотрела вице-премьер Ольга Голодец, в интернатах начались проверки, а систему решили реформировать.
— С одной стороны, это такая печаль, что все меняется так медленно, а с другой стороны — такая радость, что все же меняется. Вот мы ездили в интернат для детей с ментальными особенностями под Москвой. Подмосковные детские дома — это настоящая боль. Они все очень далеко, часть вообще в недоступном месте. Вот этот, в который мы ездили, — это Уваровка, маленький поселок за Можайском. И там больше 200 детей — за забором.
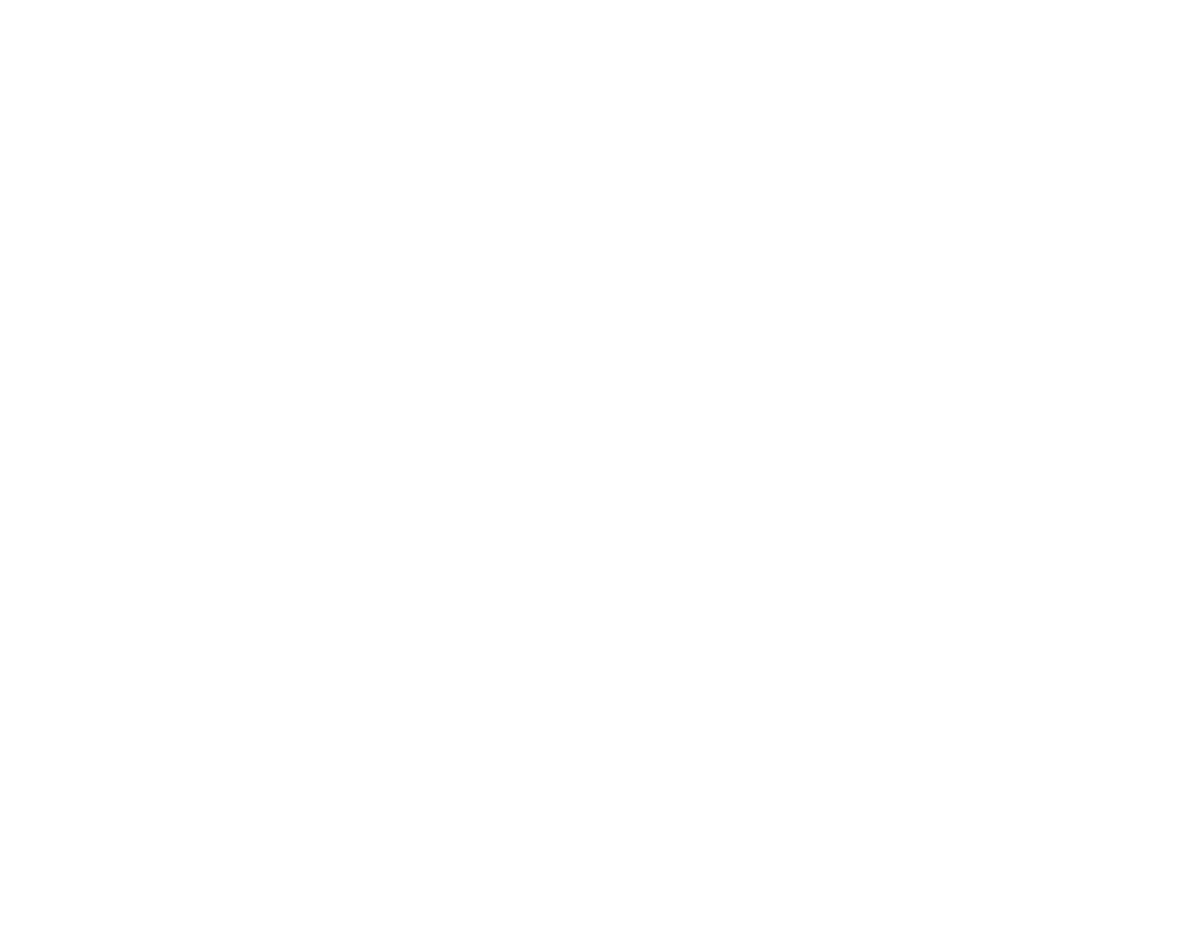
— Их же специально строили так далеко, чтобы изолировать?
— Да, по всей стране так. Этих людей не хотели видеть, как инвалидов после Великой Отечественной войны, которых отправляли на Соловки.
«Человечество вообще разнообразно. Если вы начнете выяснять, кому учиться имеет смысл, а кому уже нет, вы очень быстро дойдете до фашизма»
— Так вот в этом подмосковном интернате мы второй раз. Когда мы приезжали первый раз, в школу там практически никто не ходил. У руководства и школы, и интерната была очень стойкая позиция, что это невозможно. Мы нажимали, даже министерство образования привлекли. И вот дети — всего 21 человек — пошли в школу. Теперь я спрашиваю: «Вы видите результат?» Хором директор и школа говорят: «Да, дети фантастически изменились». Во-первых, их абсолютно спокойно приняли остальные ученики. Родители не устроили никакого скандала, а это такое типичное опасение, что не захотят видеть тяжелых детей, тем более сирот. Нет, они нормально влились, они нормально учатся, очень хорошо провели год. Я говорю: «Ну, у вас их 250, давайте остальных устроим». Дальше начинается рассказ про то, что в школе нет мест. С нами ездил представитель министерства образования, достаточно высокий чиновник. Он говорит: «А когда появятся? Ведь это нарушение закона — вы не учите детей». Отвечают: «Ну, за три года построим школу и возьмем». Не знаю, мне кажется, они должны сделать что-то другое — открыть школу в гараже, привлечь учителей из другого муниципального образования, что угодно. Потому что образование — неотъемлемое право. Как возможно, чтобы ребенок не учился? Вот уже 5 лет как принят закон об образовании.
В новом законе об образовании, который был принят в конце 2012 года (вступил в силу в сентябре 2013-го), прописали, что право на доступное образование должно быть у всех и нужно при этом учитывать разные образовательные потребности и возможности детей. В закон ввели термин «инклюзивное образование», а школы перестали делить на коррекционные и общеобразовательные.
— А за то, что они нарушают этот закон, их штрафуют?
— Вот это меня и смущает: там нет ни конкретных штрафов, ни какой-либо другой ответственности. С высокой трибуны говорится, что все должны учиться. А на практике — «А у нас нет мест», «У нас и обычные дети учатся во вторую смену, хотя нельзя».
— То есть пока все решается только проверками, когда вы приезжаете в какое-то конкретное место и с конкретными людьми разговариваете?
— Нет, мне кажется, все-таки есть какие-то общие изменения. Другое дело, что регион может как-то так написать статистику, что не приедешь — не поймешь. Можно же даже зачислить в школу, а потом ты приезжаешь, а у детей урок длительностью 10 минут и их два в неделю. И что? Это обучение? А те говорят: «У нас больше нет возможности». Но есть федеральный образовательный стандарт, должно быть 20 занятий в неделю. Не знаю, сложный вопрос, неоднозначный — как правильно было бы сделать? Их же не учил никто, много-много лет они считались необучаемыми. Потом эту необучаемость отменили. Какое-то время должно пройти.
Цивилизованные страны — Европа, Америка — реформы делали очень долго, 50 лет, это быстро не делается. Должно поменяться поколение. Вот сейчас дети с нарушениями пошли в обычные детские сады. Не везде, постепенно, единично. Родители понимают, что они имеют на это право, и начинают настаивать. И ты не можешь отказать этой маме: у нее ребенок с инвалидностью, она хочет пойти в ближайший детский сад или школу. Правда, в министерстве образования говорят, «если созданы условия». Но это не вопрос родителей и ребенка, это ваш вопрос — создавайте условия, и ребенок пойдет. А дальше дети, которые с ними ходят в один сад, вырастут и будут по-другому на это смотреть. Они будут знать, что такие люди существуют. У нас как-то приехала волонтерская группа на Валдай — очень продвинутые, современные, молодые менеджеры. Они нам строили забор — у них был такой тимбилдинг. Потом мы с ними разговаривали, рассказывали, что мы тут делаем, и один парень спросил меня: «А что такое синдром Дауна?» То есть человек никогда не видел и не задумывался. А это ведь достаточно распространенный синдром, таких людей много.
Цивилизованные страны — Европа, Америка — реформы делали очень долго, 50 лет, это быстро не делается. Должно поменяться поколение. Вот сейчас дети с нарушениями пошли в обычные детские сады. Не везде, постепенно, единично. Родители понимают, что они имеют на это право, и начинают настаивать. И ты не можешь отказать этой маме: у нее ребенок с инвалидностью, она хочет пойти в ближайший детский сад или школу. Правда, в министерстве образования говорят, «если созданы условия». Но это не вопрос родителей и ребенка, это ваш вопрос — создавайте условия, и ребенок пойдет. А дальше дети, которые с ними ходят в один сад, вырастут и будут по-другому на это смотреть. Они будут знать, что такие люди существуют. У нас как-то приехала волонтерская группа на Валдай — очень продвинутые, современные, молодые менеджеры. Они нам строили забор — у них был такой тимбилдинг. Потом мы с ними разговаривали, рассказывали, что мы тут делаем, и один парень спросил меня: «А что такое синдром Дауна?» То есть человек никогда не видел и не задумывался. А это ведь достаточно распространенный синдром, таких людей много.
Любого ребенка должны принять в школу по месту жительства — это прописано в законе об образовании. Но если у него инвалидность, то сначала нужно обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию. Она дает рекомендации, по какой программе ребенок может учиться и какие условия должны быть для этого созданы (например, если нужны занятия с логопедом и дефектологом, школа должна пригласить таких специалистов). На практике родителям часто отказывают, объясняя это тем, что в школе нет условий, хотя по закону это не может быть причиной.
Каждый год ЦЛП проводит для детей и взрослых с особенностями развития летний лагерь в лесу у озера Валдай.
— То есть чтобы что-то менялось, нужно в первую очередь избавиться от этой изоляции?
— Да. И западный опыт говорит, что чем раньше, тем лучше.
— А условия в школах и детских садах все-таки создаются?
— Очень зависит от региона, от конкретной школы.
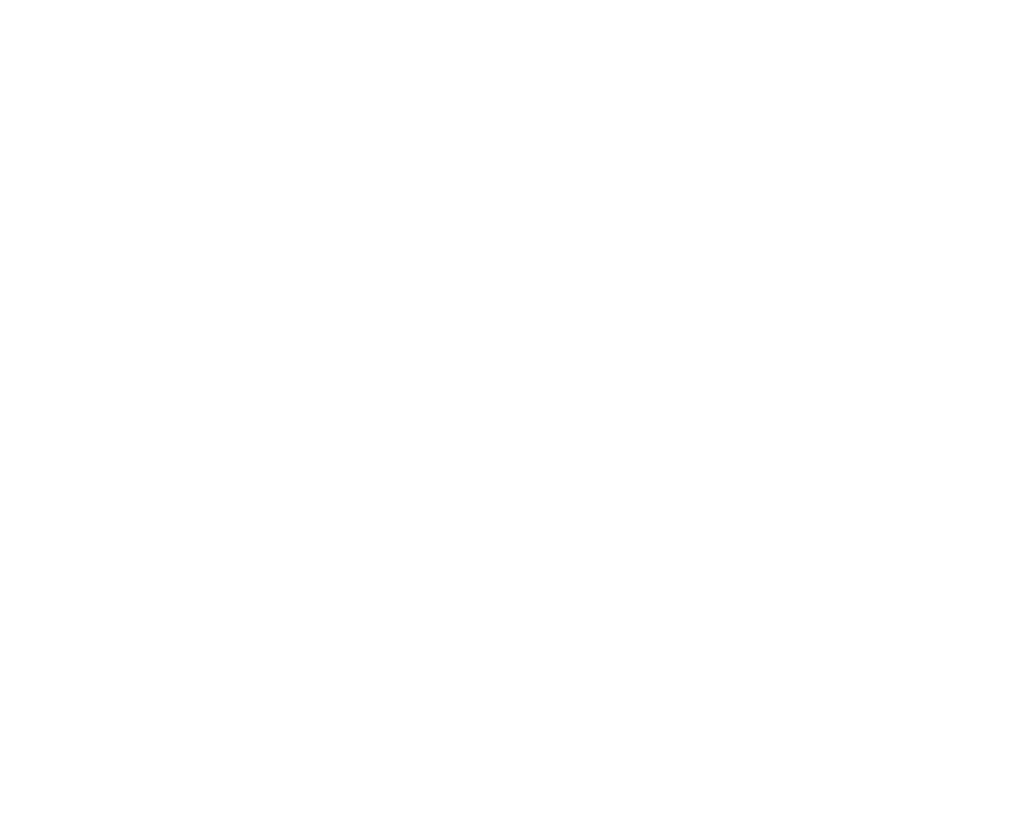
— Как это работает? Например, мама хочет отдать ребенка в ближайшую школу. Что происходит дальше?
— Например, у нас есть семья, у них достаточно сложная девочка, до этого она ходила в детский сад и вот должна была бы пойти в школу. Я советовала специализированную, потому что у девочки нет развернутой речи, долгого внимания, которое позволило бы сидеть весь урок, — она больше любит передвигаться по помещению. Все-таки она точно не сможет учиться в условиях общего класса в 30 человек, не высидит, тьютор тут не решит вопрос. А у мамы есть еще младший ребенок, в специализированную школу возить очень далеко и тяжело. Она подала заявление в ближайшую районную школу, ее взяли. Фактически девочка учится индивидуально, но внутри школы. Приходит, как все, какое-то время с ней занимается психолог, потом дефектолог, потом тьютор. Они с ней выполняют учебную сетку. На какие-то уроки заглядывают на пять минут и уходят. На переменах приводят ее знакомиться с детьми. Еще, может быть, на физкультуру, на музыку. Они, конечно, там скрипели [в школе], но вообще получилось, что проблемы-то нет. Взяла и пришла.
Когда мы начинали почти 30 лет назад, для наших детей вообще не было школ — их не брали никуда. Первый школьный класс мы открывали внутри ЦЛП. Когда их стало штук шесть, мы убедили город, и эти классы забрали — открыли специальную школу «Наш дом», которая и сейчас работает в Ясенево. Тогда это была прямо новость — создать класс для аутистов. А сейчас нет проблемы. Всех берут. Другое дело — качество образования. Но качество образования, к сожалению, страдает везде.
Когда мы начинали почти 30 лет назад, для наших детей вообще не было школ — их не брали никуда. Первый школьный класс мы открывали внутри ЦЛП. Когда их стало штук шесть, мы убедили город, и эти классы забрали — открыли специальную школу «Наш дом», которая и сейчас работает в Ясенево. Тогда это была прямо новость — создать класс для аутистов. А сейчас нет проблемы. Всех берут. Другое дело — качество образования. Но качество образования, к сожалению, страдает везде.
— Влияет ли инклюзия на образование в школах и школьную программу? Потому что, вообще-то, любому маленькому ребенку тяжело 40 минут сидеть.
— Вот у меня младший сын учился в инклюзивной школе. И я считаю, что нам очень повезло. Потому что там все-таки больше внимания каждому. В классе был тьютор — он был для детей с аутистическим спектром, но на перемене играл со всеми. И это было такое счастье, что кто-то с ними занимается, потому что учитель вечно занят.
— А обучение учителей обычных школ и тех педагогов, которые работают в интернатах, как-то меняется?
— В школах или детских садах все меняется быстрее, чем в интернатах, потому что все-таки это открытый мир. Когда ты живешь в замкнутом пространстве интерната (а в нем живут не только дети, но и по сути взрослые, которые там работают), то тебе надо не просто переучиться — надо перечеркнуть все, что ты делал много лет. Я думаю, что здесь тоже нужна смена поколений.
Школьных педагогов стараются учить. Но у нас вообще система образования педагогов требует изменений. На Западе или в Америке у учителей гораздо больше практики — почти половина учебного времени. Потому что учитель — это не наука, это практика. Ты должен знать: вот так я привлеку внимание, вот так они все отдохнут. Педагогика — очень практичная вещь. Она кому-то дана от природы, а кто-то может этому научиться, но здесь много деталей. А получается очень теоретическое обучение.
Школьных педагогов стараются учить. Но у нас вообще система образования педагогов требует изменений. На Западе или в Америке у учителей гораздо больше практики — почти половина учебного времени. Потому что учитель — это не наука, это практика. Ты должен знать: вот так я привлеку внимание, вот так они все отдохнут. Педагогика — очень практичная вещь. Она кому-то дана от природы, а кто-то может этому научиться, но здесь много деталей. А получается очень теоретическое обучение.
— Но волонтеров у вас становится все больше?
Волонтеры в ЦЛП могут помогать детям во время занятий, играть и гулять с ними, готовить и убираться на кухне, участвовать в благотворительных ярмарках или фестивалях — помогать с оформлением, привозить и увозить вещи на машине, собирать пожертвования. Некоторые приезжают к семьям домой (играют или гуляют с ребенком, подвозят на машине, если нужно). Кто-то может помочь с текстами (писать и переводить) и так далее. Стать волонтером в интернате сложнее: нужно договориться с его руководством (потому что опекуном всех, кто там живет, фактически является директор), получить медицинскую справку (для которой надо сдать много анализов) и пройти короткое обучение (для волонтеров проходит много лекций и семинаров, в том числе в ЦЛП). Есть благотворительные организации, которые уже давно работают с конкретными интернатами (и детскими, и взрослыми) и собирают волонтерские группы.
— Я помню, когда волонтеры были только западные. Приезжали немцы, французы, англичане, а мы смотрели на них с удивлением. А сейчас очень много разных людей — от дизайнеров и программистов до пилотов. Вот вчера девушка пришла, говорит, училась на биофаке два года, потом поняла, что должна менять свою жизнь, мир, и решила попробовать. В этом есть какая-то красота — что ты можешь помочь. Дети ведь очень много отдают. Может быть, больше, чем мы им даем, они нам возвращают.
— Я помню, когда волонтеры были только западные. Приезжали немцы, французы, англичане, а мы смотрели на них с удивлением. А сейчас очень много разных людей — от дизайнеров и программистов до пилотов. Вот вчера девушка пришла, говорит, училась на биофаке два года, потом поняла, что должна менять свою жизнь, мир, и решила попробовать. В этом есть какая-то красота — что ты можешь помочь. Дети ведь очень много отдают. Может быть, больше, чем мы им даем, они нам возвращают.
Волонтеры в ЦЛП могут помогать детям во время занятий, играть и гулять с ними, готовить и убираться на кухне, участвовать в благотворительных ярмарках или фестивалях — помогать с оформлением, привозить и увозить вещи на машине, собирать пожертвования. Некоторые приезжают к семьям домой (играют или гуляют с ребенком, подвозят на машине, если нужно). Кто-то может помочь с текстами (писать и переводить) и так далее. Стать волонтером в интернате сложнее: нужно договориться с его руководством (потому что опекуном всех, кто там живет, фактически является директор), получить медицинскую справку (для которой надо сдать много анализов) и пройти короткое обучение (для волонтеров проходит много лекций и семинаров, в том числе в ЦЛП). Есть благотворительные организации, которые уже давно работают с конкретными интернатами (и детскими, и взрослыми) и собирают волонтерские группы.
— Как вы учите тех, у кого нет специального образования и кто не всегда даже знает о том, что это за люди и как с ними общаться?
— Общая идея такая: ты приходишь и сначала просто смотришь. Кому-то нужно мало времени, кому-то нужно месяц ходить раз-два в неделю, сидеть, смотреть, чтобы решиться. Конечно, у нас есть лекции, пособия, но теория ничего этого не вмещает. Никакое кино не помогает понять, как ты к этому человеку подойдешь. Главное — волонтер идет работать в группу, он не брошен с этим ребенком. То есть он, во-первых, под присмотром, во-вторых, в группе каждую неделю проходят педсоветы, все обсуждается, разбирается, мы пытаемся ответить на вопросы.
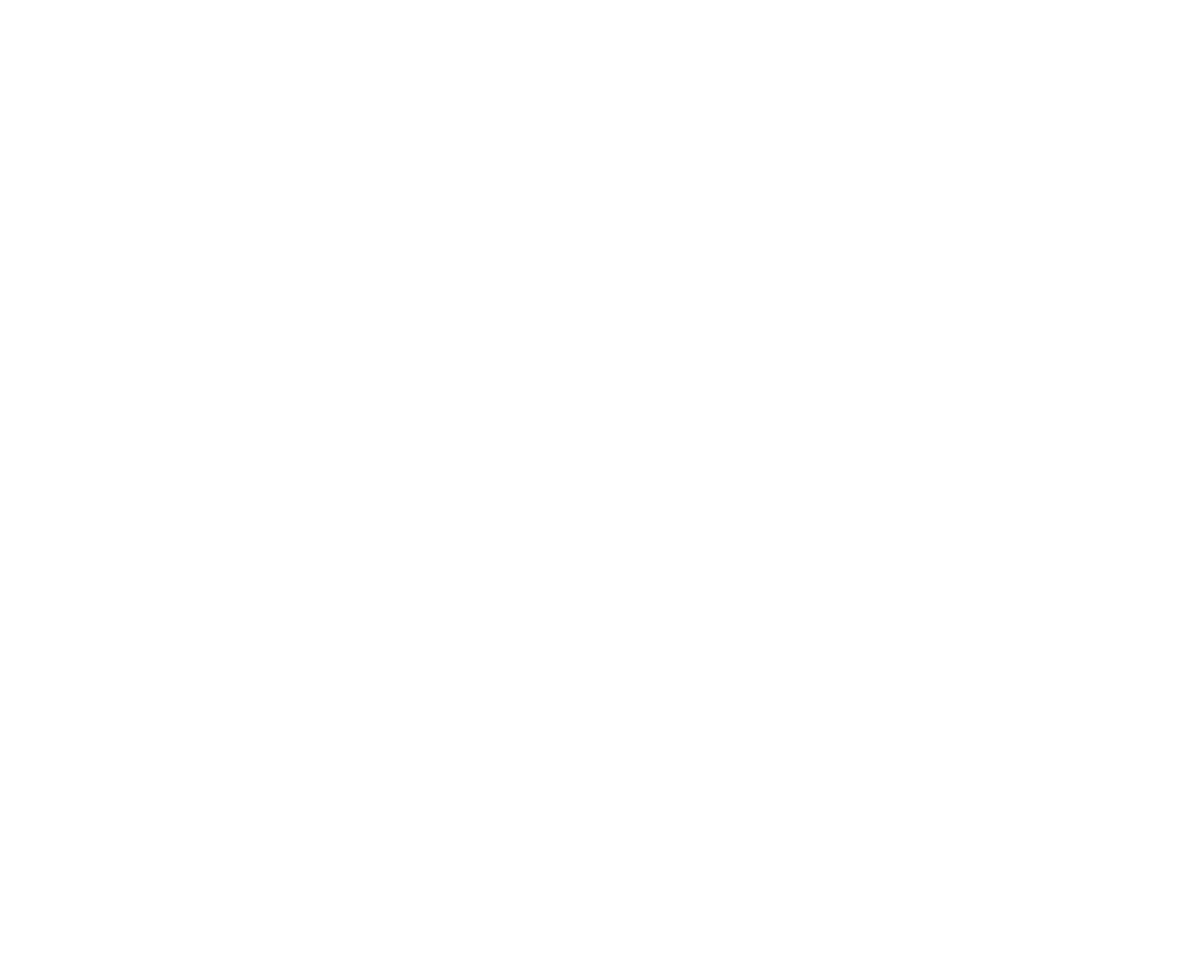
— В интернаты волонтеров начали пускать совсем недавно. Как это влияет на развитие детей?
Много лет, с советских времен, в психоневрологических интернатах был закрытый режим проживания: сложная пропускная система, ограниченные посещения и отделения, которые нельзя покидать (чаще всего нельзя выйти даже с этажа). В 2016 году Минтруд признал их открытыми учреждениями, но на практике пока мало что изменилось.
— Мне кажется, это такая история про расширение мира. Сейчас в московских интернатах материальные условия, например, очень приличные. Иногда думаешь, что, может, и в некоторых семьях нет таких хороших условий: и кровать хорошая, и постель хорошая, и одежда. Но это замкнутый мир. Когда ты живешь дома, к тебе много кто приходит в гости, ты сам ходишь в гости, ребенок может съездить пожить к бабушке или к подружке на пижамную вечеринку. А из интернатов никуда не выходят.
У нас очень не хватает волонтеров в интернатах. Люди боятся. Это большие обязательства. Нужно раз в неделю или раз в две недели выделить время, чтобы на полдня прийти. Ребенок может к тебе привязаться, ты сам можешь привязаться. И для человека, к которому ты придешь, это важно, и для тебя тоже. Но дальше начинается: не очень пускают, медицинских справок требуют тьму, за них надо платить.
У нас очень не хватает волонтеров в интернатах. Люди боятся. Это большие обязательства. Нужно раз в неделю или раз в две недели выделить время, чтобы на полдня прийти. Ребенок может к тебе привязаться, ты сам можешь привязаться. И для человека, к которому ты придешь, это важно, и для тебя тоже. Но дальше начинается: не очень пускают, медицинских справок требуют тьму, за них надо платить.
— Требуют справки?
— Справки обязательно, без справок никак не может наша страна. Вот мы доехали в этот подмосковный интернат. И директор говорит: «Надо надеть белые халаты». Я говорю: «Зачем? Это дом у вас или больница?» Говорит, что дом. «А зачем халаты?» — «Для стерильности». А как же к ним учителя приходят — тоже халаты надевают? В общем, не смог нас заставить. Так что пока это только-только начинает меняться и очень зависит от места.
— Вы же много работаете с государством и входите в комиссию, которая проверяет интернаты. Там намечается какая-то реформа на системном уровне?
В 2013 году правительство создало специальные комиссии, чтобы устроить проверки в психоневрологических интернатах для взрослых и детей. Туда пригласили представителей НКО, которые занимаются проблемами детей-сирот и детей с особенностями развития.
— С одной стороны, мы уже начали реформу на системном уровне. И 481-е постановление правительства об организации жизни детей в сиротских учреждениях — постановление революционное. Но чтобы революция случилась, оно должно начать работать. Я все время привожу в пример этот подмосковный интернат, потому что трудно освободиться от впечатлений. Как это выглядит: заходишь в палату — там кровать, кровать, кровать, между кроватями узкие проходы. И человек целую жизнь проводит в кровати. Причем кто-то, предположим, лежит, не может сидеть. А кто-то сидит, но он тоже на этой кровати целый день — его некуда вынуть, там нет места, оно не было предусмотрено. В 481-м постановлении говорится, что оно обязательно должно быть, человек не должен находиться целый день в одном помещении.
Когда мы приезжали в прошлом году, администрация обещала, что построят новый корпус и туда переведут детей, все будет как положено. Вот год прошел. У тех, кто сам ходит, поскольку они начали учиться в школе, началась вообще другая жизнь. А у тех, кто в тяжелом состоянии, ничего не поменялось. Корпус почти закончили, обещают к сентябрю отремонтировать — тогда их расселят, и наконец наступит вот эта жизнь. И я смотрю и понимаю, что персонал надо учить по-другому с ними обращаться: они не очень понимают, что с ними делать, когда они не в кровати. Но бесполезно учить сейчас, потому что пока негде. И людей нет. На эту палату, где 10–12 человек, двое взрослых. Я думаю, успевают только покормить. Персонал жалуется: «Нас штрафуют, если мы не вынимаем их из кровати».
Когда мы приезжали в прошлом году, администрация обещала, что построят новый корпус и туда переведут детей, все будет как положено. Вот год прошел. У тех, кто сам ходит, поскольку они начали учиться в школе, началась вообще другая жизнь. А у тех, кто в тяжелом состоянии, ничего не поменялось. Корпус почти закончили, обещают к сентябрю отремонтировать — тогда их расселят, и наконец наступит вот эта жизнь. И я смотрю и понимаю, что персонал надо учить по-другому с ними обращаться: они не очень понимают, что с ними делать, когда они не в кровати. Но бесполезно учить сейчас, потому что пока негде. И людей нет. На эту палату, где 10–12 человек, двое взрослых. Я думаю, успевают только покормить. Персонал жалуется: «Нас штрафуют, если мы не вынимаем их из кровати».
Постановление «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» действует с сентября 2015 года. До этого детские дома должны были содержать ребенка, кормить, оказывать медицинскую помощь, в отдельных случаях обучать, их развитию не уделялось особое внимание. Теперь главной задачей стала социальная адаптация, а условия должны быть максимально приближены к семейным: квартиры на 6-8 человек, со своей кухней и гостиной, близкие взрослые - воспитатели, возможность учиться в обычной школе.
— То есть их не обучают, а просто наказывают, если что-то не по правилам?
— Нет, учат тоже. Персонал интерната тоже пытается что-то менять. И есть директора, которые видят, как бы они хотели это сделать. Многое пока мешает.
Я считаю, что не хватает политической воли. Кто-то сверху должен понять, что так нельзя, неприлично, стыдно. У нас большая страна. А этих детей в детских домах-интернатах — 19 тысяч на всю страну. На всю огромную Московскую область — тысяча детей. А в Кировской области, например, их 200; в маленькой Псковской области — 150. Вы не можете их переселить из этой деревни куда-нибудь в город? Давайте подумаем о них немножко. Это всего 150 детей. На целый регион!
Отдельная тема — что проживание в интернате стоит безумных денег. Потому что это стационирование, это отдельно стоящее здание, затраты на охрану, круглосуточное дежурство врачей. И вот столько денег тратится на то, чтобы ребенок жил в интернате, вместо того чтобы тратить их на жизнь в семье. Мы пишем письма — уговариваем Максима Топилина, что надо вводить дополнительную выплату родителям, воспитывающим тяжелых детей-инвалидов. Ответа пока не получили.
Я считаю, что не хватает политической воли. Кто-то сверху должен понять, что так нельзя, неприлично, стыдно. У нас большая страна. А этих детей в детских домах-интернатах — 19 тысяч на всю страну. На всю огромную Московскую область — тысяча детей. А в Кировской области, например, их 200; в маленькой Псковской области — 150. Вы не можете их переселить из этой деревни куда-нибудь в город? Давайте подумаем о них немножко. Это всего 150 детей. На целый регион!
Отдельная тема — что проживание в интернате стоит безумных денег. Потому что это стационирование, это отдельно стоящее здание, затраты на охрану, круглосуточное дежурство врачей. И вот столько денег тратится на то, чтобы ребенок жил в интернате, вместо того чтобы тратить их на жизнь в семье. Мы пишем письма — уговариваем Максима Топилина, что надо вводить дополнительную выплату родителям, воспитывающим тяжелых детей-инвалидов. Ответа пока не получили.
Максим Топилин — российский министр труда и социальной защиты с мая 2012 года.
— С другой стороны, когда поднимается такая тема, начинают бояться, что тогда будут оставлять детей только ради того, чтобы получать эти деньги.
— Но сейчас родителю ребенка-инвалида вообще не на что жить. В Москве (московские цифры я лучше всего знаю) около 130 тысяч в месяц, а где-то до 150, тратится на ребенка в интернате, где он живет без мамы. А мама, которая растит такого ребенка, сама получает копейки: федеральные деньги — 5–8 тысяч в месяц, плюс пенсия на ребенка, в Москве с доплатами будет около 20 тысяч. На это все равно нельзя прожить. Ну дайте вы хотя бы 50 тысяч, как приемным даете. И она оставит ребенка в семье.
— То есть от государства приемные семьи получают больше денег, чем родные?
— Больше. И получается, что государство деньгами голосует за отдачу. Потому что, например, если ребенок с тяжелой формой инвалидности, его не возьмут в детский сад на целый день — он не самообслуживается, да ему и самому будет тяжело. Ему нужен детский сад, но на полдня. И мама не сможет работать. А на что же она будет жить? Если есть полная семья и папа работает, их обеспечивает — это хороший вариант. Но у нас за последние два года родители сильно обеднели. Мы это видим, потому что часть денег на работу Центра собирают родители. И вот эта часть все уменьшается и уменьшается. Мы входим в положение: раз нет денег, то мы будем искать дальше, находить какие-то другие средства.
— При этом с детьми у нас работают больше, а когда человек становится совершеннолетним, то все еще сложнее и с условиями, и с образованием, и с изменениями?
В России больше 500 психоневрологических интернатов для взрослых (ПНИ), там живут не меньше 150 тысяч человек — туда переводят выпускников детских домов (если у них есть умственная отсталость — почти всегда), туда попадают люди с психическими расстройствами разной тяжести, с врожденными ментальными нарушениями, если они теряют родителей или других опекунов, пожилые люди с умственными заболеваниями. Даже если у них есть родственники, их официальным представителем становится интернат. Администрация по закону имеет право на 75% их пенсий, кроме того, есть случаи, когда людей лишали дееспособности и распоряжались их квартирами, зарабатывая на этом. О проблемах системы интернатов и реформе, которая готовится уже несколько лет, можно подробнее почитать, например, в материалах специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой.
— Когда мы ездим по регионам, мы посещаем в основном детские интернаты и дома ребенка. Но вот недавно в Томске были и во взрослом. Приехала наша сотрудница и говорит: «Давай все-таки не ездить пока во взрослые. Сделать пока ничего нельзя, а морально очень тяжело». Конечно, общественность, мы в том числе, делаем что-то. Пытаемся для начала хотя бы поменять санпины, они сейчас удивительные. В санитарных правилах и нормах прямым текстом написано, что людям с психическими нарушениями нужно жить по коридорному типу. И взрослые без психических нарушений имеют право жить в комнате по 2–4 человека, а если они с психическими нарушениями, то до 6–8 человек. А почему? Если у человека психические нарушения, ему же тем более нужно пространство и важно, кто его соседи. Где там эта личность, интимность? Ты при всех раздеваешься, при всех одеваешься. Поскольку считали, видимо, что они вообще никто, то до 18 лет очень часто в палате живут и мальчики, и девочки — там, где группы потяжелее.
Нужны новые строительные правила и нормы. Вот мы были во взрослом интернате: 30 молодых девушек живут вместе. Два душа на 30 человек. А как же они успевают помыться? Директор говорит: «А они раз в неделю ходят в баню». Я была с чиновником высокого ранга, она не выдержала, говорит: «А ваша жена как часто моется?» Или входишь в туалеты, а там ни одной перегородки. «А что, это же все женщины». Ну я тоже женщина, но я бы не хотела жить как в казарме. Да и в казарме сейчас, по-моему, уже такого нет.
Нужны новые строительные правила и нормы. Вот мы были во взрослом интернате: 30 молодых девушек живут вместе. Два душа на 30 человек. А как же они успевают помыться? Директор говорит: «А они раз в неделю ходят в баню». Я была с чиновником высокого ранга, она не выдержала, говорит: «А ваша жена как часто моется?» Или входишь в туалеты, а там ни одной перегородки. «А что, это же все женщины». Ну я тоже женщина, но я бы не хотела жить как в казарме. Да и в казарме сейчас, по-моему, уже такого нет.
— Когда мы ездим по регионам, мы посещаем в основном детские интернаты и дома ребенка. Но вот недавно в Томске были и во взрослом. Приехала наша сотрудница и говорит: «Давай все-таки не ездить пока во взрослые. Сделать пока ничего нельзя, а морально очень тяжело». Конечно, общественность, мы в том числе, делаем что-то. Пытаемся для начала хотя бы поменять санпины, они сейчас удивительные. В санитарных правилах и нормах прямым текстом написано, что людям с психическими нарушениями нужно жить по коридорному типу. И взрослые без психических нарушений имеют право жить в комнате по 2-4 человека, а если они с психическими нарушениями, то до 6-8 человек. А почему? Если у человека психические нарушения, ему же тем более нужно пространство и важно, кто его соседи. Где там эта личность, интимность? Ты при всех раздеваешься, при всех одеваешься. Поскольку считали, видимо, что они вообще никто, то до 18 лет очень часто в палате живут и мальчики, и девочки — там, где группы потяжелее.
Нужны новые строительные правила и нормы. Вот мы были во взрослом интернате: 30 молодых девушек живут вместе. 2 душа на 30 человек. А как же они успевают помыться? Директор говорит: «А они раз в неделю ходят в баню». Я была с чиновником высокого ранга, она не выдержала, говорит: «А ваша жена как часто моется?». Или входишь в туалеты, а там ни одной перегородки. «А что, это же все женщины». Ну я тоже женщина, но я бы не хотела жить, как в казарме. Да и в казарме сейчас, по-моему, уже такого нет.
Нужны новые строительные правила и нормы. Вот мы были во взрослом интернате: 30 молодых девушек живут вместе. 2 душа на 30 человек. А как же они успевают помыться? Директор говорит: «А они раз в неделю ходят в баню». Я была с чиновником высокого ранга, она не выдержала, говорит: «А ваша жена как часто моется?». Или входишь в туалеты, а там ни одной перегородки. «А что, это же все женщины». Ну я тоже женщина, но я бы не хотела жить, как в казарме. Да и в казарме сейчас, по-моему, уже такого нет.
«Люди просто не понимают, что такое личные вещи. Трусы, носки, футболки в большинстве мест могут быть общими, и это считается нормальным. Но по отношению к личности это безжалостно»
— Сколько государство тратит на содержание взрослого человека, который живет в интернате?
— В Москве — около 60 тысяч. И тут та же самая история. Вот живет человек, у него есть бабушка, которой нужен постоянный уход. И он физически не может его обеспечить, ему нужно детей кормить, ходить на работу. Если государство выплатит ему эти 60 тысяч, разве он не наймет сиделку? Ну, не 60, так 40. Сколько-то денег дайте в семью, и человек останется дома. Когда ты отдаешь родственника в интернат, его опекуном становится интернат. Вот, например, история: женщина вынуждена была отдать в интернат маму, потому что проживала с ней одна, должна была работать, а нужен был круглосуточный присмотр. И вот эта родная дочь стала матери никем. И она рассказывала со слезами, что мама умирала, она хотела к ней ходить, но там было время приема и прийти можно только в это время. То есть система не человеческая. Она не о людях — она о правилах.
Хорошо, что сейчас эту проблему НКО пытаются решать с разных сторон: Нюта Федермессер бьется за паллиативную помощь, чтобы паллиативные больные могли получать ее дома; Елизавета Олескина и «Старость в радость» бьются за систему долговременного ухода, чтобы были люди, которые приходили бы домой, ухаживали за старушкой, вот сейчас эту систему приняли.
Хорошо, что сейчас эту проблему НКО пытаются решать с разных сторон: Нюта Федермессер бьется за паллиативную помощь, чтобы паллиативные больные могли получать ее дома; Елизавета Олескина и «Старость в радость» бьются за систему долговременного ухода, чтобы были люди, которые приходили бы домой, ухаживали за старушкой, вот сейчас эту систему приняли.
В России больше 500 психоневрологических интернатов для взрослых (ПНИ), там живут не меньше 150 тысяч человек — туда переводят выпускников детских домов (если у них есть умственная отсталость — почти всегда), туда попадают люди с психическими расстройствами разной тяжести, с врожденными ментальными нарушениями, если они теряют родителей или других опекунов, пожилые люди с умственными заболеваниями. Даже если у них есть родственники, их официальным представителем становится интернат. Администрация по закону имеет право на 75% их пенсий, кроме того, есть случаи, когда людей лишали дееспособности и распоряжались их квартирами, зарабатывая на этом. О проблемах системы интернатов и реформе, которая готовится уже несколько лет, можно подробнее почитать, например, в материалах специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой.
Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и руководитель московского Центра паллиативной медицины.
Директор фонда «Старость в радость», который помогает инвалидам и пожилым людям, живущим в домах престарелых и психоневрологических интернатах.
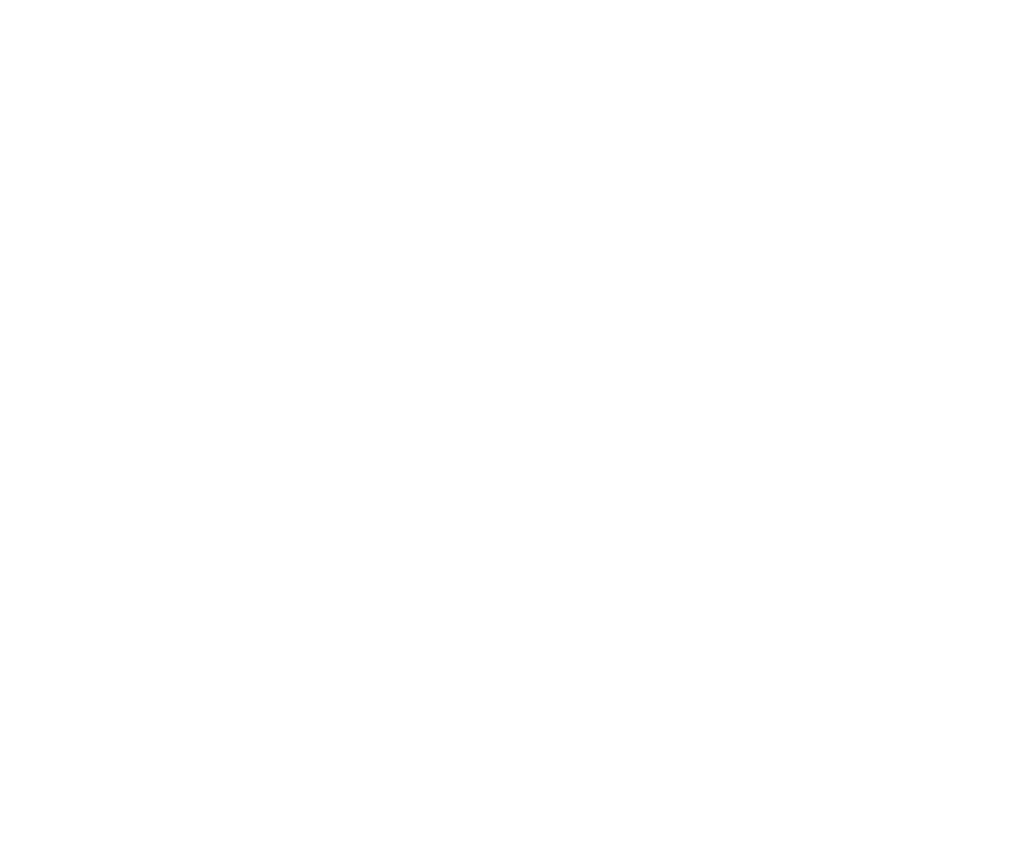
— Детей после интерната часто лишают дееспособности, и они в итоге оказываются снова в ПНИ. Как быть с этим и что нужно, чтобы вернуть дееспособность?
Правозащитники говорят, что около 90% детей, которые переходят в психоневрологические интернаты из детских домов, лишают дееспособности. Из-за того, что в детдоме они практически не учились, им ставят диагноз «олигофрения», хотя далеко не всегда у них есть умственная отсталость. Есть много случаев, когда людей лишили дееспособности заочно, они об этом даже не знали.
— Сейчас у нас очень легко лишают дееспособности. Обычно интернат подает в суд. Суд, по идее, должен встретиться с каждым таким человеком. Но нет ощущения, что это реально происходит или что это происходит не формально. Бывает, что дееспособности лишают сразу большую группу — 20 человек в один день. Как они смогли с ними со всеми поговорить? Может, кого-нибудь можно лишить дееспособности частично или вообще подождать. Потому что многие из наших детей дозревают позже, и года в 23–24 становится понятно, что, может быть, они бы и могли жить самостоятельно.
А возврат дееспособности — очень сложная вещь. Вот у нас есть девочка в Оренбурге, которую сейчас пытаются извлечь из интерната. Ее лишили дееспособности. Ходящая, говорящая, читающая, пишущая. Что еще надо для дееспособности? Да, наверное, она не умеет решать квадратные уравнения. Но я знаю кучу народу, которые тоже их не решают. Правда ли, что это нужно для самостоятельной жизни? Калькулятор, в конце концов, есть.
Человек, который живет в интернате, часто как инопланетянин. У меня почему-то возник пример из жизни Гора. Это десятилетний мальчик, он занимался в ЦЛП, сейчас его уже усыновили. Он как-то спросил: «А что, разве не все дети ходят в памперсах?» Очень был удивлен, когда выяснилось, что на улице вечером горят фонари. Значит, 10 лет вообще не выходил вечером? Я с ним занималась, говорю: «Вот удочка, ей ловят рыбу». И вижу, что он вообще не понимает, что за рыба, как она выглядит. Рыба — это такое протертое в тарелке лежит. Еще из интересного — считал, что взрослые не спят. Не видел никогда.
А возврат дееспособности — очень сложная вещь. Вот у нас есть девочка в Оренбурге, которую сейчас пытаются извлечь из интерната. Ее лишили дееспособности. Ходящая, говорящая, читающая, пишущая. Что еще надо для дееспособности? Да, наверное, она не умеет решать квадратные уравнения. Но я знаю кучу народу, которые тоже их не решают. Правда ли, что это нужно для самостоятельной жизни? Калькулятор, в конце концов, есть.
Человек, который живет в интернате, часто как инопланетянин. У меня почему-то возник пример из жизни Гора. Это десятилетний мальчик, он занимался в ЦЛП, сейчас его уже усыновили. Он как-то спросил: «А что, разве не все дети ходят в памперсах?» Очень был удивлен, когда выяснилось, что на улице вечером горят фонари. Значит, 10 лет вообще не выходил вечером? Я с ним занималась, говорю: «Вот удочка, ей ловят рыбу». И вижу, что он вообще не понимает, что за рыба, как она выглядит. Рыба — это такое протертое в тарелке лежит. Еще из интересного — считал, что взрослые не спят. Не видел никогда.
— То есть сначала им надо еще отдельно учиться каким-то очевидным для многих вещам.
— Оказалось, что самое сложное — это что люди просто не понимают, что такое личные вещи. Приезжаешь в интернат, тебе в лучшем случае показывают, что у ребенка есть собственные трусы. Но, скорее всего, это будет какой-нибудь парадный костюм. А трусы, носки, футболки в большинстве мест могут быть общими, и это считается нормальным. Меня это просто выводит из равновесия. Вот в том месте, в котором мы недавно были, дети не бриты налысо, но с очень коротким ежиком. Но ведь у мальчиков сейчас бывают такие красивые стрижки — это же тоже часть личности. А бывает, что и девочки все налысо. И женщины. Зачем? Понятно, что так проще в уходе — иначе надо же будет причесывать. Но по отношению к личности это безжалостно. Потому что мы — это наша одежда, наша еда, то, что мы выбираем. Они все едят одно и то же. Ну я, например, не ем одно и то же, у меня есть какой-то выбор. А там человек настолько лишен самостоятельного выбора, что даже непонятно, как он потом будет жить. Это же надо пойти в магазин и выбрать — а как? Тебе же всю жизнь давали.
Хотя три года назад там даже не было места, где все могло бы храниться. Сейчас, как раз в санпинах — по детским учреждениям новые санпины вполне разумные, мы немножко приложили к ним руку, — требуется тумбочка. Она еще не везде есть, но в перспективе они понимают, что у каждого должна быть тумбочка. Но ты приходишь — она либо пустая, либо в ней в лучшем случае пижама. Но, вообще-то, есть же еще что-то другое. Мои фотографии, моя книжка. «Он не понимает книжки». Хорошо, значит, погремушка. Что-то свое должно быть у каждого, это очень важно.
Надо сказать, что очень многое так устроено не от злой воли, а от непонимания. И я вижу, что надо учить персонал. Вот мы пишем книжки-пособия и для родителей, и для сотрудников интернатов. И ездим, чтобы обучать — настолько, насколько у нас хватает ресурса, и настолько, насколько интернаты понимают, что это нужно. Не все же понимают.
Хотя три года назад там даже не было места, где все могло бы храниться. Сейчас, как раз в санпинах — по детским учреждениям новые санпины вполне разумные, мы немножко приложили к ним руку, — требуется тумбочка. Она еще не везде есть, но в перспективе они понимают, что у каждого должна быть тумбочка. Но ты приходишь — она либо пустая, либо в ней в лучшем случае пижама. Но, вообще-то, есть же еще что-то другое. Мои фотографии, моя книжка. «Он не понимает книжки». Хорошо, значит, погремушка. Что-то свое должно быть у каждого, это очень важно.
Надо сказать, что очень многое так устроено не от злой воли, а от непонимания. И я вижу, что надо учить персонал. Вот мы пишем книжки-пособия и для родителей, и для сотрудников интернатов. И ездим, чтобы обучать — настолько, насколько у нас хватает ресурса, и настолько, насколько интернаты понимают, что это нужно. Не все же понимают.
— Хотя так удивительно. Они ведь с этими людьми проводят столько времени.
— Но у них же другой подход. У них есть так называемый привычный взгляд: все лежат, все необучаемы. Когда мы еще только начинали, 4 года назад, пришли в один интернат, он на нас произвел тяжелейшее впечатление. И наша сотрудница говорит нянечке: «Как вам, наверное, тяжело в этой ситуации работать». Та говорит: «А что, все лежат — все в порядке». Это же удобно. А так вынешь — он, может, поползет. Или пойдет.
Очень много барьеров в мире — это, наверное, нормально. Но хочется, чтобы их не было. В том числе и в нашем сознании. Мы только что вернулись из Грузии — у нас был там лагерь в горах. Четыре человека были на колясках, часть плохо ходили, я в том числе, потому что недавно сломала ногу. Захотели пойти на экскурсию по пещерному городу, надо было залезть на гору. Я говорю: «Давайте для тех, кто плохо ходит, сделаем прогулку по равнинке, а остальные пускай лезут в гору — мы не залезем». А наш грузинский партнер, прекрасный Ираклий Гвенетадзе, говорит: «Я сейчас позову своих регбистов (у него база регбийная), и мы все пройдем». И вот эти регбисты — их было 6 или 7 человек — детей, которые не могли ходить, пронесли. Я прошла сама, но меня поддерживали. И я понимаю, что даже у меня — при таком длительном опыте работы, при всем желании, чтобы они имели такие же возможности, как и все остальные, — у меня тоже есть барьеры. А вот у человека в Грузии в сознании барьеров нет. Он понимает, что это неприлично — сказать человеку: «Ты на коляске, ты не пойдешь».
Очень много барьеров в мире — это, наверное, нормально. Но хочется, чтобы их не было. В том числе и в нашем сознании. Мы только что вернулись из Грузии — у нас был там лагерь в горах. Четыре человека были на колясках, часть плохо ходили, я в том числе, потому что недавно сломала ногу. Захотели пойти на экскурсию по пещерному городу, надо было залезть на гору. Я говорю: «Давайте для тех, кто плохо ходит, сделаем прогулку по равнинке, а остальные пускай лезут в гору — мы не залезем». А наш грузинский партнер, прекрасный Ираклий Гвенетадзе, говорит: «Я сейчас позову своих регбистов (у него база регбийная), и мы все пройдем». И вот эти регбисты — их было 6 или 7 человек — детей, которые не могли ходить, пронесли. Я прошла сама, но меня поддерживали. И я понимаю, что даже у меня — при таком длительном опыте работы, при всем желании, чтобы они имели такие же возможности, как и все остальные, — у меня тоже есть барьеры. А вот у человека в Грузии в сознании барьеров нет. Он понимает, что это неприлично — сказать человеку: «Ты на коляске, ты не пойдешь».
Еще один летний лагерь, который ЦЛП каждый год проводит для детей с ментальными нарушениями.
Смотрите также

