литературно-критический альманах «Транслит»
Архитектура, космос, секс:
о чем мечтали советские диссиденты 1970-х годов
о чем мечтали советские диссиденты 1970-х годов
Анализ архива бишкекской квир-коммуны им. Коллонтай.
Существование советских диссидентов не определялось только лишь бинарной оппозицией тоталитарной власти и личной свободы. В реальности их отношения с действительностью были более неоднозначными, не исключали из себя ни лояльность и согласие, ни критику и протест. Участники платформы ШТАБ Георгий Мамедов и Оксана Шаталова проанализировали найденные ими документы из сорокалетнего архива диссидентской коммуны города Фрунзе — современного Бишкека. Утопическая архитектура, половой вопрос и поэтическая критика социализма — T&P публикуют статью, напечатанную в последнем номере альманаха «Транслит».
Работая над проектом по истории Бишкека, мы получили доступ к обширной библиотеке фрунзенского психолингвиста и философа Арона Брудного (где сосредоточены книги и рукописи как самого Брудного, так и его коллег и знакомых). В одной из прежде не разобранных семьей Брудного коробок мы обнаружили пачку документов, свидетельствующих о том, что во Фрунзе 70-х гг. существовало сообщество диссидентов, осмыслявших пол и гендер с той позиции, которую сегодня можно обозначить как близкую социально-конструкционистской. Вариант: это сочинения не группы, а мечтателя-одиночки, который придумал себе соратников, — что существенно картину не меняет: текст говорит за себя.
Мы назвали чудесную находку «архивом бишкекской квир-коммуны». Датируемый — согласно выходным данным печатных носителей — первой половиной 70-х гг., этот архив включает:
Мы назвали чудесную находку «архивом бишкекской квир-коммуны». Датируемый — согласно выходным данным печатных носителей — первой половиной 70-х гг., этот архив включает:
1) машинописный 9-страничный текст, означенный как «доклад», под титулом «Исторический материализм, советская власть и вопросы пола на современном этапе»;
2) восемь иллюстрированных видами Фрунзе почтовых открыток без марок, с нацарапанной на обратной стороне (простым или цветным карандашом) поэтической критикой института семьи, призывами освободиться «от органических пут» и улететь в космос;
3) модифицированный советский пропагандистский плакат с изображением Маркса-Энгельса и карты российских социал-демократических кружков. Детурнеман (тушь и аппликация) анонимных авторов заключается в: добавлении на карту пометки «Коммуна им. А. М. Коллонтай» в «г. Фрунзе»; оснащении кабинета Маркса-Энгельса портретом этой же революционерки и вложении в пророческие уста основоположников лозунга «Дорогу Космическому Эросу!» (апгрейд Эроса Коллонтай);
4) единственный не относящийся к гендерной тематике артефакт — архитектурная фантазия на тему горного города, здания которого собираются на отдаленно расположенном заводе и переносятся в горную местность через стратосферу — посредством «стратостатов-домовозов». Поскольку артефакт был стиснут в пачке вместе с вышеперечисленными документами, логично также отнести его к продукции «коммуны им. Коллонтай». Космическая тема также присутствует на эскизе — в виде изображения кометы, устремленной к Полярной звезде.
2) восемь иллюстрированных видами Фрунзе почтовых открыток без марок, с нацарапанной на обратной стороне (простым или цветным карандашом) поэтической критикой института семьи, призывами освободиться «от органических пут» и улететь в космос;
3) модифицированный советский пропагандистский плакат с изображением Маркса-Энгельса и карты российских социал-демократических кружков. Детурнеман (тушь и аппликация) анонимных авторов заключается в: добавлении на карту пометки «Коммуна им. А. М. Коллонтай» в «г. Фрунзе»; оснащении кабинета Маркса-Энгельса портретом этой же революционерки и вложении в пророческие уста основоположников лозунга «Дорогу Космическому Эросу!» (апгрейд Эроса Коллонтай);
4) единственный не относящийся к гендерной тематике артефакт — архитектурная фантазия на тему горного города, здания которого собираются на отдаленно расположенном заводе и переносятся в горную местность через стратосферу — посредством «стратостатов-домовозов». Поскольку артефакт был стиснут в пачке вместе с вышеперечисленными документами, логично также отнести его к продукции «коммуны им. Коллонтай». Космическая тема также присутствует на эскизе — в виде изображения кометы, устремленной к Полярной звезде.
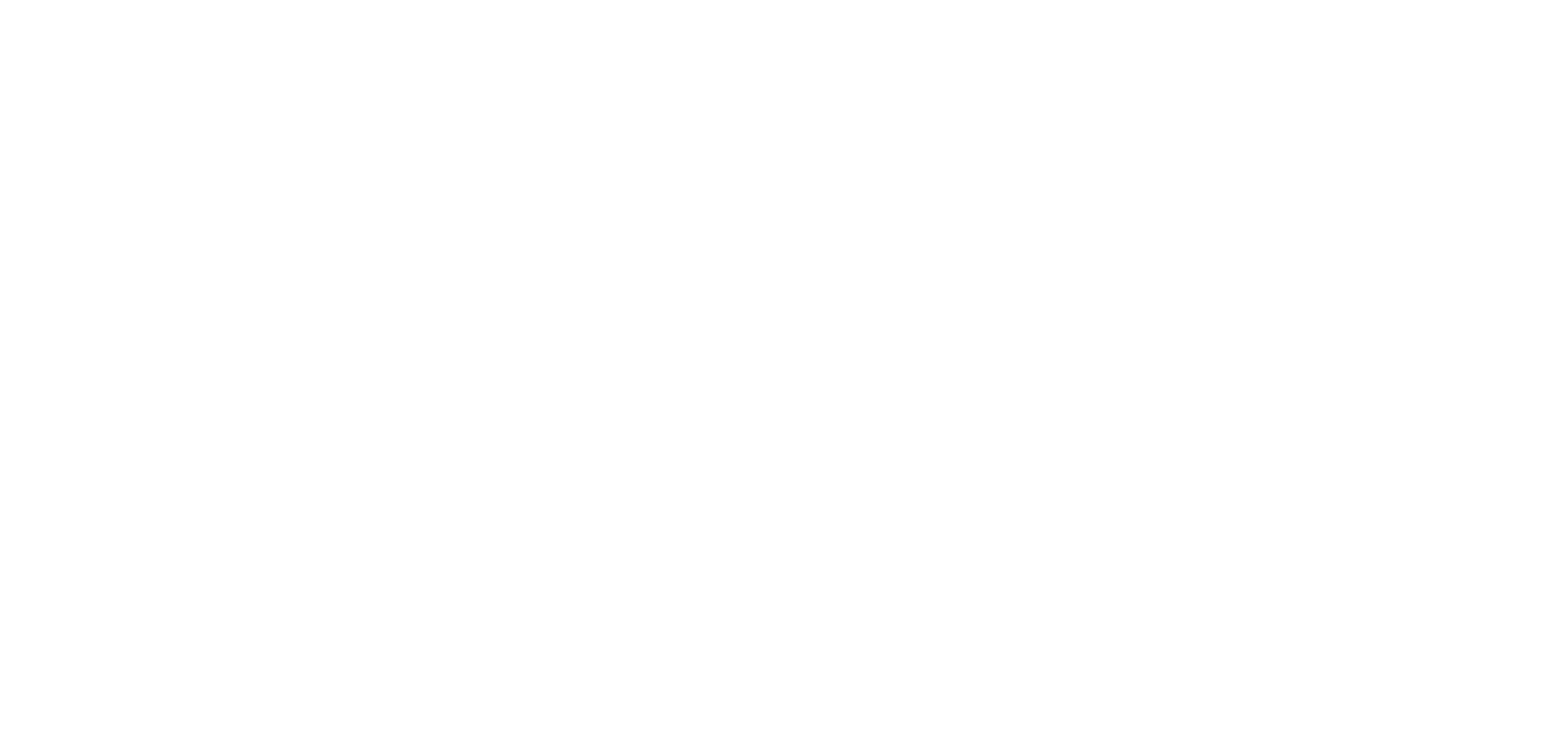
Все эти артефакты с первого взгляда диагностируется как симптомы привычной диссидентской «тайной свободы» — тихого, но упрямого противостояния репрессиям власти. Однако анализ составляющих этого дискурсивного комплекса — архитектурной футурологии, вопросов сексуальности, космического топика — позволяют простроить более сложную конфигурацию диссидентской «машины желания», некоторые механизмы чего скрывались под поверхностью, другие не запрещались, но пребывали в тени, третьи — открыто поощрялись и администрировались властью. В такой оптике отношения диссидентов с властью описываются фигурой не антагонизма, но, скорее, ереси или интерпретации. Этот беглый — в силу ограничений обзорной статьи — анализ и представлен настоящим текстом.
Контекст квир-коммуны:
«концептуальное пректирование»
«концептуальное пректирование»
Начнем с архитектуры, которая поставляла в СССР легальные поводы для утопических воодушевлений и идентификаций. Имеется в виду архитектура не «реальная», а «бумажная», аккумулировавшая амбициозную утопическую мысль как первой, так и второй половины XX в.: в оттепельно-застойный период архитектурные игры воображения кочевали по научным и популярным изданиям, архитектурным и дизайнерским конкурсам. Летающие дома квир-коммунаров являются здесь не радикальным, но просто современным примером. В 60–70-х в моде были: динамика, легкость, обуздание гравитации — подвешенные, «падающие», непоседливые города-метаморфы:
В далеком будущем Локтев представляет себе архитектуру антигравитационной. Города, или, как он их называет, градолеты расположатся на искусственных спутниках земли.
Когда мы научимся управлять гравитацией, в воздух смогут подняться и наши жилища. Дома уже не будут прикованы к одному месту и станут гораздо более подвижными, чем нынешние туристические автоприцепы. Они могут перемещаться по суше и по морю, с одного континента на другой, из одной климатической зоны в другую; будут следовать за солнцем, изменять свое местоположение в зависимости от времени года…
Когда мы научимся управлять гравитацией, в воздух смогут подняться и наши жилища. Дома уже не будут прикованы к одному месту и станут гораздо более подвижными, чем нынешние туристические автоприцепы. Они могут перемещаться по суше и по морю, с одного континента на другой, из одной климатической зоны в другую; будут следовать за солнцем, изменять свое местоположение в зависимости от времени года…
Если сравнить последнюю цитату с ситуационистским «Сводом правил о новом урбанизме» И. Щеглова: «мобильный дом-трансформер будет поворачиваться нужной стороной к солнцу, стены дома будут раздвижные и позволят наблюдать за природой вокруг. Собранный на рельсах, утром он будет спускаться к морю, а к вечеру возвращаться обратно в лес», то можно опознать полное совпадение футуристического образа-желания во фрондерском манифесте и в книжке, выпущенной издательством «Знание» тиражом 60 тыс. экз.
Подобные штудии определялись самими авторами как концептуальное проектирование:
Подобные штудии определялись самими авторами как концептуальное проектирование:
…такого рода проекты принципиально не предназначены для практической реализации… Концептуальное проектирование сродни… чуду. Человек избавляется от связывающих его творческую инициативу пут — жестких экономических ограничений, нормативных предписаний, традиционных представлений о возможном и невозможном — и получает свободу поиска новых, нетривиальных путей и выходов из различных тупиков современности.
Во Фрунзе 60–70-х гг. подобная деятельность осуществлялась школой Валентина Курбатова, разрабатывавшего на архитектурном факультете Фрунзенского политехнического института тему типового строительства в сложном рельефе. Считалось, что лежащий у подножия Киргизского Ала-Тоо Фрунзе, разрастаясь, рано или поздно начнет карабкаться в горы. Т.е. разработки имели как будто локальную прагматическую направленность, однако поставляли фантазии без привязки к конкретной местности и материалам, т.е. также являли собой пример «концептуального проектирования». На реализацию не рассчитывали — по теме защищались дипломные проекты, представлявшиеся затем на всесоюзных конкурсах.
Показателен здесь утопический масштаб притязаний. Покорение гор, равно как и поворот рек вспять, и одоление гравитации — модернистский пафос par excellence, и этот жизнестроительный пафос методично производился советской образовательной машиной. Около десяти лет студенты Курбатова упражнялись в утопическом варьировании, изобретая монументальные ходы — например, гигантский, на 6 тысяч жителей, дом-мост, перекинутый через ущелье. Очевидно, что архитектурный эскиз «коммуны им. Коллонтай» развивает те же горные фантазии — что позволяет предположить, что его авторы были близки кругу Курбатова. Они также были озабочены решениями отдельных концептуальных ребусов: транспортировки в сложном рельефе и недостатка в горах ровных пространств. В транспортном вопросе авторы разрубили гордиев узел, решив перемещать собранные на заводе готовые дома по воздуху, а недостаток ровных поверхностей компенсировали за счет эксплуатации плоских крыш. Эскиз демонстрирует широту возможного приложения сил человека, озирающего, словно свою собственность, весь преисподний и горний мир — от земного ядра до Полярной звезды.
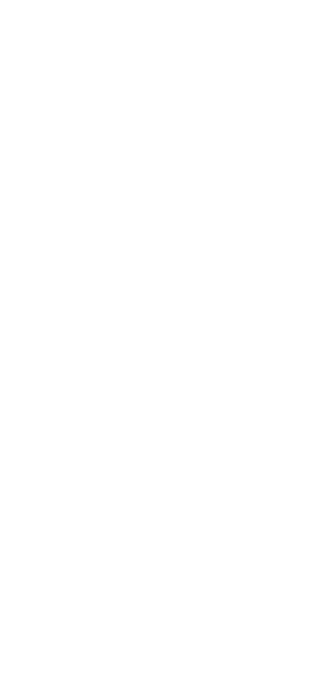
Подобные футурологические практики развивались в СССР 50–70-х на пересечении трех разнозаряженных факторов: доступа архитекторов к информации, распространения индустриального строительства и реактуализации архитектурного авангарда 20–30-х гг.
Первый фактор: в отличие от изобразительного искусства, советская архитектура не замыкалась в информационном гетто и имела доступ к разработкам «капстран». Иллюстративны здесь воспоминания фрунзенского архитектора, в 60–70-е гг. учившегося у Курбатова. На вопрос о тогдашних профессиональных интересах последовал ответ: «Мы современным советским не увлекались». Интересовались западным. Библиотека иностранной литературы при Госстрое выписывала французские, итальянские, японские архитектурные журналы, доступные специалистам, — благо, для чтения планов не обязательно знать язык. Некоторые журналы частично переводились на русский язык в Москве и поступали в библиотеку в черно-белых копиях.
Сюда же примыкает и второй мотив. Студенты 60–70-х «не увлекались советским» в силу изменившейся роли архитектора при индустриальном домостроении. Архитектура перестала быть «искусством» и стала наукой и инженерией. Наиболее востребованной практикой являлось проектирование микрорайонов: архитектор, зажатый рамками строительных стандартов, обладал творческой свободой лишь на уровне «игры в кубики», — «свободно» расставляя домики по территории, что именовалось «привязкой к ситуации». Радикальная «непривязанность» футурологии являлась здесь очевидной компенсацией — примечательно опять же, что компенсации находилось место на открытом, а не на андерграундном поле. И, наконец, третий фактор: смена стилистической парадигмы реабилитировала наследие 20–30-х гг. с их интересом к типичности и функциональности, — но также и к радикальному отрыву от земли.
Сюда же примыкает и второй мотив. Студенты 60–70-х «не увлекались советским» в силу изменившейся роли архитектора при индустриальном домостроении. Архитектура перестала быть «искусством» и стала наукой и инженерией. Наиболее востребованной практикой являлось проектирование микрорайонов: архитектор, зажатый рамками строительных стандартов, обладал творческой свободой лишь на уровне «игры в кубики», — «свободно» расставляя домики по территории, что именовалось «привязкой к ситуации». Радикальная «непривязанность» футурологии являлась здесь очевидной компенсацией — примечательно опять же, что компенсации находилось место на открытом, а не на андерграундном поле. И, наконец, третий фактор: смена стилистической парадигмы реабилитировала наследие 20–30-х гг. с их интересом к типичности и функциональности, — но также и к радикальному отрыву от земли.
В первые послереволюционные годы «вопросы пола» находились в центре общественной дискуссии, поставив под сомнение институты брака, семьи, домашнего воспитания детей
Книга архитектора Борисовского иллюстрирует «возвращение» авангарда символическим пассажем: автор описывает торжественное извлечение из чулана подшивки конструктивистской «Современной архитектуры» и отправку на ее место альбомов по архитектуре Ренессанса.
Архитектурный авангард, собственно, и реактуализировал «тему квир-коммуны» — быт, гендер, сексуальность. Вернее, предпринял такое усилие, попытавшись вернуться в политическом всеоружии. В довесок к эстетике 20–30-х гг. советская архитектура 50-х получила — словно невольно активировала — риторику «коллективизации быта» и «освобождения женщины от кухонного рабства», обязательную для авангардного этикета. Известно, что в первые послереволюционные годы «вопросы пола» находились в центре общественной дискуссии, поставив под сомнение институты брака, семьи, домашнего воспитания детей. Архитекторы и проектировщики социалистического быта были активными участниками этой дискуссии.
Согласно логике наиболее левых ее участников, традиционное семейное разделение труда подразумевает соответственную пространственную ситуацию: «Структура жилища (например, деление жилищ на комнаты) вытекает в свою очередь из факта разделения труда внутри жилища». Эта логика вела к уничтожению кухни как изолированного пространства в новостроящихся домах-коммунах. Реактуализация авангарда в 50-е гг.привела к тому, что про обобществление «женского» домашнего труда вновь стали много говорить. Дома-коммуны и жилкомбинаты 20–30-х обрели наследников: в 50-х стали проектировать «дома-комплексы», включавшие развитый сектор коллективного быта.
Архитектурный авангард, собственно, и реактуализировал «тему квир-коммуны» — быт, гендер, сексуальность. Вернее, предпринял такое усилие, попытавшись вернуться в политическом всеоружии. В довесок к эстетике 20–30-х гг. советская архитектура 50-х получила — словно невольно активировала — риторику «коллективизации быта» и «освобождения женщины от кухонного рабства», обязательную для авангардного этикета. Известно, что в первые послереволюционные годы «вопросы пола» находились в центре общественной дискуссии, поставив под сомнение институты брака, семьи, домашнего воспитания детей. Архитекторы и проектировщики социалистического быта были активными участниками этой дискуссии.
Согласно логике наиболее левых ее участников, традиционное семейное разделение труда подразумевает соответственную пространственную ситуацию: «Структура жилища (например, деление жилищ на комнаты) вытекает в свою очередь из факта разделения труда внутри жилища». Эта логика вела к уничтожению кухни как изолированного пространства в новостроящихся домах-коммунах. Реактуализация авангарда в 50-е гг.привела к тому, что про обобществление «женского» домашнего труда вновь стали много говорить. Дома-коммуны и жилкомбинаты 20–30-х обрели наследников: в 50-х стали проектировать «дома-комплексы», включавшие развитый сектор коллективного быта.
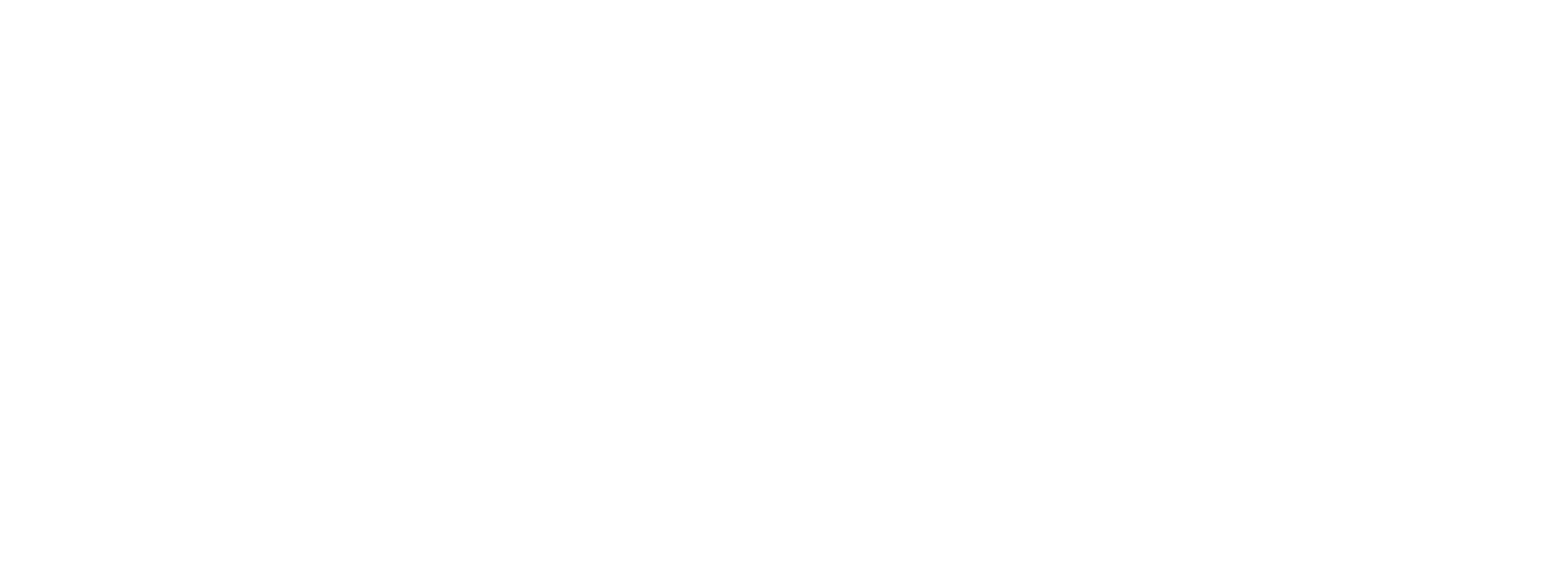
Тот же Курбатов в своих книгах предсказывал будущее отмирание кухни, развитие жилья «с полностью обобществленным бытом» и даже общественное воспитание детей — школьники будут проводить большую часть времени в интернатах, а с родителями видеться «эпизодически». Однако подобные примеры — языковая инерция или флэшбэки 20–30-х — вступали в противоречивые отношения с консервативной гендерной политикой. Ревизия авангарда постоянно сопровождалась оговорками в духе «грубые ошибки конструктивистов». Ошибки заключались в том, что авангардисты «разрушали семью», утверждая ее историчность и пытаясь форсировать новые формы совместности. Опасаясь повторения подобных «ошибок», в 50–70-х «обобществление быта» призывали проводить осторожно, оберегая институт семьи. В этой точке и опознается радикальное расхождение авангарда 20–30-х и его поздней реинкарнации: исключая первое «дискуссионное десятилетие», прочие советские периоды утверждали гендерно-сегрегированную семью с «природными различиями полов» как вечную и безальтернативную.
Таким образом, постановка задачи «освобождения женщины от кухонного рабства» в 50–70-е содержала внутреннее противоречие: в ситуации гендерной сегрегации она не имеет решения. Закономерно, что пафос переустройства быта постепенно стал сходить на нет. В 70-х все чаще звучали фразы типа «домашний обед оборачивается укреплением семейных уз». Прославлялась «малая механизация домашнего хозяйства» (т.е. не обобществление быта, а усовершенствование индивидуальной бытовой техники, — социалистическое «освобождение женщины» сливалось с капиталистическим по модели, описанной Бетти Фридан). Нарастающие семейные ценности шли рука об руку с нарастающей валоризацией «личности». Архитектура дрейфовала в том же интимизирующем направлении: интерес проектировщиков смещался от домов-комплексов с их измерением коллектива к дизайну атомизированной «жилой ячейки», готовой в любой момент трансформировать каждый дюйм в угоду пожеланиям разросшейся на всех срезах официального дискурса «личности».
Таким образом, постановка задачи «освобождения женщины от кухонного рабства» в 50–70-е содержала внутреннее противоречие: в ситуации гендерной сегрегации она не имеет решения. Закономерно, что пафос переустройства быта постепенно стал сходить на нет. В 70-х все чаще звучали фразы типа «домашний обед оборачивается укреплением семейных уз». Прославлялась «малая механизация домашнего хозяйства» (т.е. не обобществление быта, а усовершенствование индивидуальной бытовой техники, — социалистическое «освобождение женщины» сливалось с капиталистическим по модели, описанной Бетти Фридан). Нарастающие семейные ценности шли рука об руку с нарастающей валоризацией «личности». Архитектура дрейфовала в том же интимизирующем направлении: интерес проектировщиков смещался от домов-комплексов с их измерением коллектива к дизайну атомизированной «жилой ячейки», готовой в любой момент трансформировать каждый дюйм в угоду пожеланиям разросшейся на всех срезах официального дискурса «личности».
Темы квир-коммуны
1. «Советская власть и половой вопрос»
Если женский труд, общественное воспитание детей и обобществление быта начиная с 50-х в том или ином виде вновь стали частью широкой общественной дискуссии, то вопросы секса и сексуальности в публичном советском дискурсе с конца 30-х и до середины 80-х практически не обсуждаются. Игорь Семенович Кон, ведущий советский и российский сексолог, сопроводил следующим комментарием интернет-публикацию своей статьи 1966 года «Половая мораль в свете социологии», впервые напечатанной в журнале «Советская педагогика»: «Эта статья была первой серьезной советской публикацией о сексуальности с середины 1930-х годов». Статья примечательна тем, что в ней Кон пытается рассматривать сексуальность и романтическую любовь с марксистских и советских позиций, одновременно делая заявления в духе социально-конструкционистского подхода: «Нет ничего более наивного, чем представление о «естественных нормах» половой морали» и противопоставляя высокую мораль межполовых отношений в СССР сексуальной революции на капиталистическом Западе.
И все же главный мотив статьи — в исследованиях сексуальности и сексуальном просвещении ведущую роль должен играть сложный и противоречивый комплекс психофизиологических и социально-исторических факторов, а не нормы и императивы морали. Этот и другие тексты Кона 1960–70-х годов («Секс, общество, культура», 1970; «Психология юношеской сексуальности», 1976) представляют собой попытку критической ревизии советского догматического и нормативного дискурса о сексуальности и гендерных отношениях с марксистских и коммунистических позиций. Схожую, но более радикальную попытку мы обнаруживаем в наших находках. Напечатанный на машинке «доклад» «Исторический материализм, советская власть и вопросы пола на современном этапе» предваряется цитатой из Ленина: «В области брака и половых отношений близится революция, созвучная пролетарской революции». «Доклад» в целом представляет собой сборник ярких цитат по вопросам пола и сексуальности, собранных из широкого спектра марксистских текстов, включающих «Манифест коммунистической партии», воспоминания К. Цеткин и тексты А. Коллонтай. Цитаты в докладе призваны продемонстрировать, что вопросы сексуальной эмансипации неотделимо связаны с коммунистическим проектом и что эту связь понимали и декларировали уже основоположники. Между тем, рассуждения Ленина и Коллонтай подвергаются «товарищеской критике»:
И все же главный мотив статьи — в исследованиях сексуальности и сексуальном просвещении ведущую роль должен играть сложный и противоречивый комплекс психофизиологических и социально-исторических факторов, а не нормы и императивы морали. Этот и другие тексты Кона 1960–70-х годов («Секс, общество, культура», 1970; «Психология юношеской сексуальности», 1976) представляют собой попытку критической ревизии советского догматического и нормативного дискурса о сексуальности и гендерных отношениях с марксистских и коммунистических позиций. Схожую, но более радикальную попытку мы обнаруживаем в наших находках. Напечатанный на машинке «доклад» «Исторический материализм, советская власть и вопросы пола на современном этапе» предваряется цитатой из Ленина: «В области брака и половых отношений близится революция, созвучная пролетарской революции». «Доклад» в целом представляет собой сборник ярких цитат по вопросам пола и сексуальности, собранных из широкого спектра марксистских текстов, включающих «Манифест коммунистической партии», воспоминания К. Цеткин и тексты А. Коллонтай. Цитаты в докладе призваны продемонстрировать, что вопросы сексуальной эмансипации неотделимо связаны с коммунистическим проектом и что эту связь понимали и декларировали уже основоположники. Между тем, рассуждения Ленина и Коллонтай подвергаются «товарищеской критике»:
Историко-материалистический анализ отношений между полами на различных этапах развития производственных отношений — родовом, феодальном и капиталистическом, не смог подвести тов. Коллонтай к закономерному выводу, что и сама провозглашаемая исключительность эмоционального и эротического влечения мужчины к женщине и женщины к мужчине исторически и идеологически обусловлена. Тов. Коллонтай провозглашает любовь-товарищество между женщинами и мужчинами, но разве не может быть любви-товарищества между женщинами и женщинами и между мужчинами и мужчинами???
Парафраз названия текста Коллонтай «Дорогу крылатому Эросу» становится лозунгом авторов или авторок архива и своего рода ключом к нему. Доклад заканчивается экспрессивным и поэтизированным изложением их собственной «критическо-утопической» программы:
Крылатый эрос слишком слаб для борьбы с гравитацией гнусной семьи гнусного папы и гнусных детей бабушкидедушкитеутшкидядюшки нам нужны космические скорости и космические мощности галактические-нет-вселенские масштабы чтобы эту человеческую гравитацию преодолеть оторваться улететь КОСМИЧЕСКИЙ ЭРОС КОСМИЧЕСКИЙ ЭРОС КОСМИЧЕСКИЙ ЭРОСССССССССССССССС
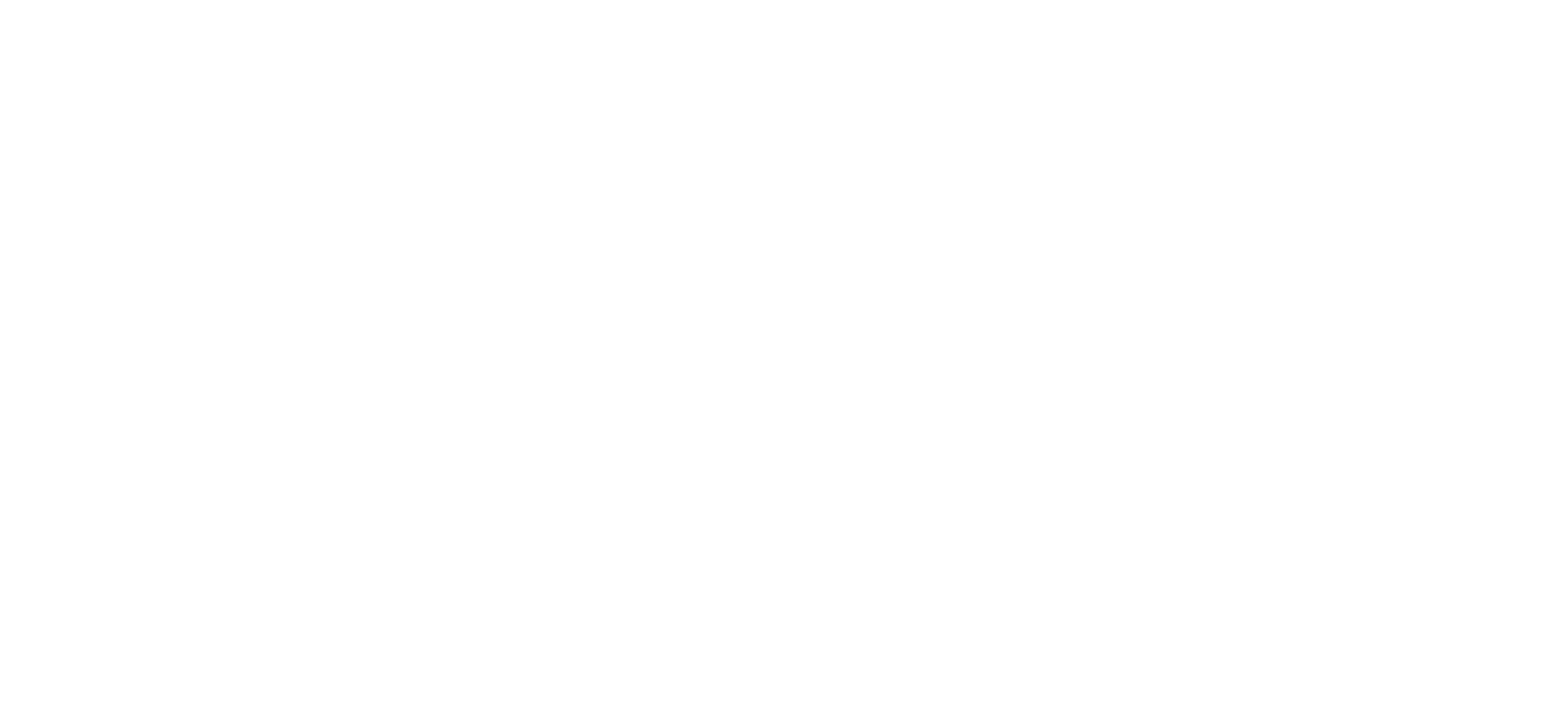
Нам неизвестно, составляют ли восемь коротких стихотворений, записанных на почтовых открытках с видами Фрунзе, цикл. Но если в качестве путеводной нити выбрать тему сексуальности, то обнаруживается последовательность, начинающаяся вопрошанием пола как определяющей человека идентичности (Почему человек —/ функция физиологии, а не сознания?) и заканчивающейся прокламацией полного отказа не только от пола, но и от тела. Человек, избавленный от физического тела, превращается в бесконечный поток частиц и энергии — «волну» (ЛОВИ ВОЛНУ/ВСЕСУЩЕСТВО).
Именно это поэтическое вопрошание и преодоление пола и телесности обнаруживает поразительную когерентность современной квир-теории и позволяет нам условно обозначить авторов найденных материалов как «бишкекскую квир-коммуну». Квир-теория не только заявляет историзирующий подход к гендеру, полу и сексуальности и, соответственно, рассматривает эти категории как социальные конструкты, но в целом осуществляет деконструкцию политики идентичностей (включая этнические, национальные и пр.), вскрывая неразрывно связанные с этой политикой отношения власти.
Наши возможности реконструкции образа этой фрунзенской «квир-коммуны» крайне ограничены. Возможно, это творчество одного человека. Но внимательное изучение доступных материалов позволяет предположить некоторую периодизацию в производстве найденных текстов. Стихотворения на открытках, видимо, созданы позднее остальных артефактов. В них советской действительности «развитого социализма» уже отказывается в возможности каких-либо трансформаций в сторону подлинного коммунистического проекта, критика сменяется негацией:
Именно это поэтическое вопрошание и преодоление пола и телесности обнаруживает поразительную когерентность современной квир-теории и позволяет нам условно обозначить авторов найденных материалов как «бишкекскую квир-коммуну». Квир-теория не только заявляет историзирующий подход к гендеру, полу и сексуальности и, соответственно, рассматривает эти категории как социальные конструкты, но в целом осуществляет деконструкцию политики идентичностей (включая этнические, национальные и пр.), вскрывая неразрывно связанные с этой политикой отношения власти.
Наши возможности реконструкции образа этой фрунзенской «квир-коммуны» крайне ограничены. Возможно, это творчество одного человека. Но внимательное изучение доступных материалов позволяет предположить некоторую периодизацию в производстве найденных текстов. Стихотворения на открытках, видимо, созданы позднее остальных артефактов. В них советской действительности «развитого социализма» уже отказывается в возможности каких-либо трансформаций в сторону подлинного коммунистического проекта, критика сменяется негацией:
Развитой социализм — де-юре,
завитой цезаризм — де-факто.
Маркс не учел гравитации фактор.
На Земле свобода —
в форме свободного падения.
Летают не пролетарии,
а кремлевские привидения.
Земля-эксплуататор тянет к себе:
осадок, упадок, спад.
Слишком много топлива надо,
чтобы взлететь над:
Импортной стенкой,
Кремлевской стеной,
Научным прогрессом,
седой стариной,
Папой, мамой и мной,
спортивной семьей,
Уютом гнилым, гниютом унылым,
садиком-склепиком милым,
Родной землей
и родной природой.
И страшной безжалостной волей народа.
завитой цезаризм — де-факто.
Маркс не учел гравитации фактор.
На Земле свобода —
в форме свободного падения.
Летают не пролетарии,
а кремлевские привидения.
Земля-эксплуататор тянет к себе:
осадок, упадок, спад.
Слишком много топлива надо,
чтобы взлететь над:
Импортной стенкой,
Кремлевской стеной,
Научным прогрессом,
седой стариной,
Папой, мамой и мной,
спортивной семьей,
Уютом гнилым, гниютом унылым,
садиком-склепиком милым,
Родной землей
и родной природой.
И страшной безжалостной волей народа.
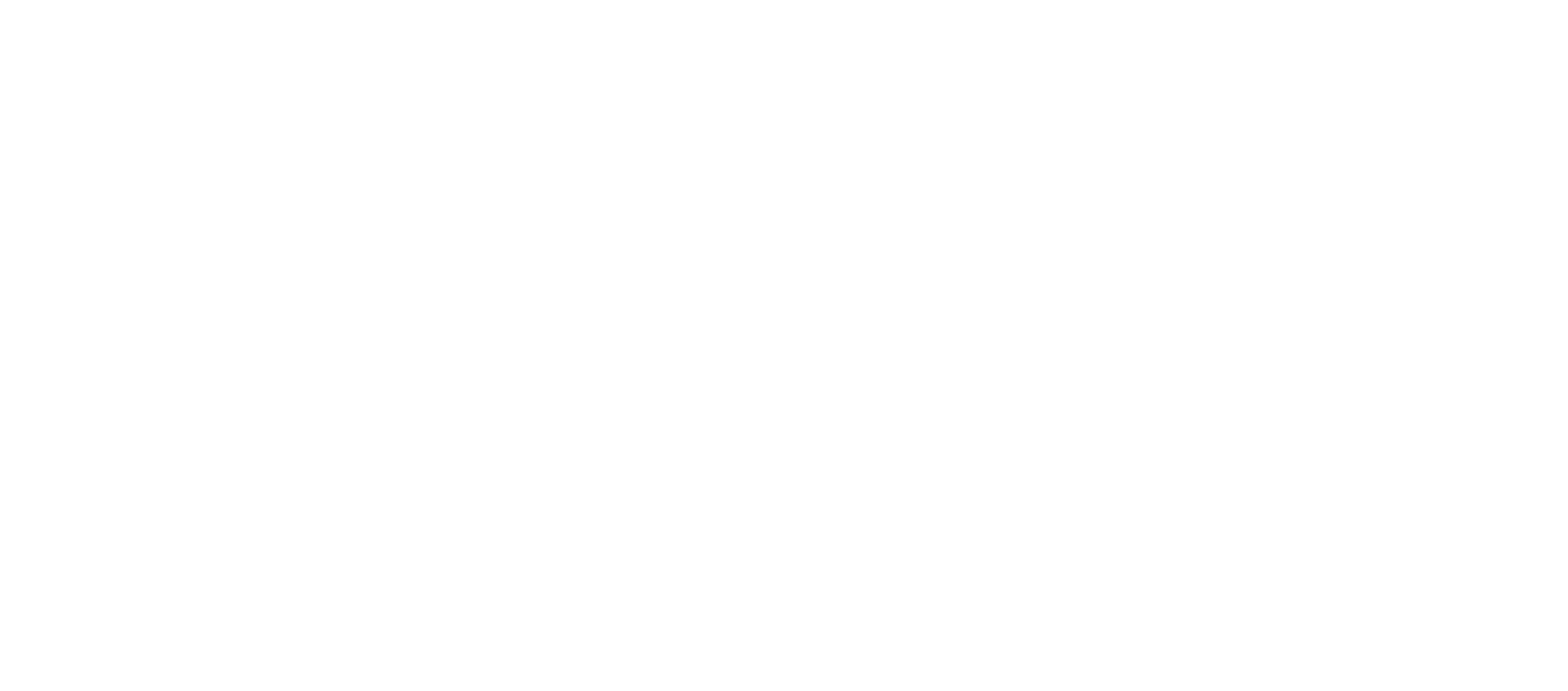
2. «Космос — подлинная революция»
Окончательное разочарование в советском социализме выводит наших «коммунаров» на проторенную тропу — обращению к космосу как пространству для побега из угнетающей действительности. Мотив подобного побега берет свое начало в философии русского космизма. Космисты понимали космос как пространство, свободное от всех земных ограничений — не только гравитации, но и энтропии. Космос — пространство бессмертия. В теории Циолковского о межпланетных путешествиях ракеты уносят в отдаленнейшие галактики воскресших предков живущего человечества. В 1920-е годы в среде российских анархистов формируется мистико-поэтическое движение биокосмистов, писавших футуристические манифесты и стихи. Перемещение человечества в космос и обретение бессмертия анархо-бикосмисты полагали естественным развитием Октябрьской революции. Кораблем, перемещающимся в космическом пространстве, им виделась Земля. Освоение просторов Вселенной — дело не индивидов, а всего человечества, освобожденного не только от эксплуатации и культурных предрассудков, но от самих пространства и времени.
В конце 50-х советская партийная номенклатура окончательно отказывается от экспансионистских амбиций мировой революции, объявляя в качестве приоритета «удовлетворение растущих материальных потребностей советских людей». Освоение космоса остается единственной сферой, где притязания на глобальную идеологическую гегемонию сохраняют свою актуальность. Авангардная фантазия 20-х о коммунизме как исключительно вселенском проекте в своеобразной перверсивной форме усваивается официальной идеологией 60–70-х. Радикальные социальные трансформации, обещанные революцией, но очевидно недостижимые ни «в отдельно взятой стране», ни на отдельно взятой планете, однако, могли обсуждаться в контексте научной фантастики и футурологии, которые и превращаются в полигон для практически ничем не ограниченного воображения (аналогично концептуальному проектированию в архитектуре). На страницах массового научно-популярного журнала «Техника молодежи» в 70-е обсуждается вселенское будущее человечества, в котором футуристические фантазии анархо-биоксмистов о бессмертии и подчинении человеку всех видов энергии, времени и пространства описываются как научно обоснованные экстраполяции. Наряду с ними прогнозируется и разрушение «эдипова треугольника»:
В конце 50-х советская партийная номенклатура окончательно отказывается от экспансионистских амбиций мировой революции, объявляя в качестве приоритета «удовлетворение растущих материальных потребностей советских людей». Освоение космоса остается единственной сферой, где притязания на глобальную идеологическую гегемонию сохраняют свою актуальность. Авангардная фантазия 20-х о коммунизме как исключительно вселенском проекте в своеобразной перверсивной форме усваивается официальной идеологией 60–70-х. Радикальные социальные трансформации, обещанные революцией, но очевидно недостижимые ни «в отдельно взятой стране», ни на отдельно взятой планете, однако, могли обсуждаться в контексте научной фантастики и футурологии, которые и превращаются в полигон для практически ничем не ограниченного воображения (аналогично концептуальному проектированию в архитектуре). На страницах массового научно-популярного журнала «Техника молодежи» в 70-е обсуждается вселенское будущее человечества, в котором футуристические фантазии анархо-биоксмистов о бессмертии и подчинении человеку всех видов энергии, времени и пространства описываются как научно обоснованные экстраполяции. Наряду с ними прогнозируется и разрушение «эдипова треугольника»:
Сегодня (хотя это и довольно странно, если призадуматься) никто нам не задает важнейшего из всех сколько-нибудь важных для нас вопросов: хотим ли мы вообще явиться в сей мир, дабы жить в нем? Это принудительный дар, полученный каждым из нас от родителей, обычно не обремененных конкретными перспективами. Вот и сегодня все 3 миллиарда и 600 миллионов жителей Земли отнюдь не добровольно избрали тот образ жизни, который они вынуждены иметь, ту личность, которой их «одарили», ту социальную среду, те конкретные возможности, что мы именуем талантом, знанием, должностью, судьбой. И вообще, будет ли этично согласно нормам общества третьего тысячелетия предоставлять решение такого вопроса, как создание новой личности, всего двум людям — родителям, сколь бы они ни были возвышенны в интеллектуальном и моральном отношении? Без участия самого заинтересованного!
Катастрофическую инфляцию космическая тема претерпевает к середине 80-х, когда в космические дали улетает из коммунального ада «совка» «маленький человек» Кабакова (инсталляция «Человек, улетевший в космос из своей комнаты», 1986). Его «персонажи тоталитарного мира» не грезят бессмертием в бескрайней Вселенной. Для них, изможденных советской действительностью, сам побег, причем в любом направлении — в космос, или в картину, — величайший подвиг, а исчезновение равно освобождению.
Мечта же о космосе фрунзенских последователей А. Коллонтай, возможно, и не лишена эскапистского отчаяния кабаковских Комаровых и Гавриловых, но все же больше похожа на вселенские амбиции биокосмистов и советских фантастов-футурологов. Космос сохраняет надежду на «подлинную революцию», пусть не социальную и возможную лишь как трансформация материи:
Мечта же о космосе фрунзенских последователей А. Коллонтай, возможно, и не лишена эскапистского отчаяния кабаковских Комаровых и Гавриловых, но все же больше похожа на вселенские амбиции биокосмистов и советских фантастов-футурологов. Космос сохраняет надежду на «подлинную революцию», пусть не социальную и возможную лишь как трансформация материи:
Космос — подлинная революция.
В космосе нет правящего класса.
В космосе — только трудящаяся масса,
Но нет нетрудового веса.
Масса безвесна.
Бестелесна.
Свободна от дыхания и метаболизма.
Пролетарий, природа — последний предел!
Коммунизм есть советская власть плюс десоматизация тел.
Земли анатомический театр забыт.
Даешь новый быт!
Вакуумический
В космосе нет правящего класса.
В космосе — только трудящаяся масса,
Но нет нетрудового веса.
Масса безвесна.
Бестелесна.
Свободна от дыхания и метаболизма.
Пролетарий, природа — последний предел!
Коммунизм есть советская власть плюс десоматизация тел.
Земли анатомический театр забыт.
Даешь новый быт!
Вакуумический
Отношения наших фрунзенских квир-диссидентов с советской действительностью кажутся сложным комплексом взаимодействий и пересечений, которые не исключали ни лояльность и согласие, ни критику, оппонирование, разочарование или протест. Подобная неоднозначность, возможно, объясняет, почему эти артефакты оставались все это время незамеченными — их нельзя дешифровать с помощью знакомого двоичного кода — тоталитарная власть/свободная личность, официальная/неофициальная культура, мы/они. В отношении многих советских феноменов и процессов, например того же концептуального искусства, объяснительная продуктивность этих оппозиций не ставится под сомнение.
Однако А. Юрчак обращает внимание на то, что если сравнить перестроечные и постсоветские воспоминания и комментарии о советском прошлом с документами, создававшимися в собственно советские годы, то окажется, что «сама модель разделения советского языка на «их» тоталитарный язык и «наш» свободный язык является, в значительной мере, продуктом перестройки или постперестроечных лет». Так, официозная позднесоветская критика архитектурного авангарда, выступая от имени гуманизма, использовала те же риторические фигуры, какие либеральная критика времен перестройки и ныне использует для обличения советского: «казарменность», «подавление индивидуальности», «забвение человеческой личности».
В этой оптике, как ни парадоксально это звучит, художники-концептуалисты с их измерением Акакия Акакиевича оказываются ближе властному дискурсу, чем анахронические в этом смысле фрунзенские квир-коммунары, критиковавшие «личность-личинку» и «семью — ячейку общества» и выдвинувшие концепт «всесущества», преодолевшего индивидуальные границы.
Однако А. Юрчак обращает внимание на то, что если сравнить перестроечные и постсоветские воспоминания и комментарии о советском прошлом с документами, создававшимися в собственно советские годы, то окажется, что «сама модель разделения советского языка на «их» тоталитарный язык и «наш» свободный язык является, в значительной мере, продуктом перестройки или постперестроечных лет». Так, официозная позднесоветская критика архитектурного авангарда, выступая от имени гуманизма, использовала те же риторические фигуры, какие либеральная критика времен перестройки и ныне использует для обличения советского: «казарменность», «подавление индивидуальности», «забвение человеческой личности».
В этой оптике, как ни парадоксально это звучит, художники-концептуалисты с их измерением Акакия Акакиевича оказываются ближе властному дискурсу, чем анахронические в этом смысле фрунзенские квир-коммунары, критиковавшие «личность-личинку» и «семью — ячейку общества» и выдвинувшие концепт «всесущества», преодолевшего индивидуальные границы.

