комментарии
Гуд бай, Ленин!
Философы, историки и культурологи
об уничтожении советских памятников
Философы, историки и культурологи
об уничтожении советских памятников
Текст: Кирилл Роженцов, Андрей Шенталь
В апреле 2015 года Украинская рада приняла законопроект «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, запрете их пропаганды и символики». Этот противоречивый закон спровоцировал и в каком-то смысле санкционировал уничтожение памятников советской визуальной культуры. T&P опросили ведущих философов, социологов, советологов по поводу этого явления.
«Уничтожение монументов вызвано
архаической верой в мистическую силу
памятника»
архаической верой в мистическую силу
памятника»
Мне кажется уничтожение монументов почти всегда вызвано страхом перед ними, архаической верой в мистическую силу памятника. Большевики поступали бесстрашнее. Так, например, к памятнику Александру III Паоло Трубецкого был добавлен текст Демьяна Бедного:
Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного бесславья.
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.
Можно вспомнить и Мавзолей Комара и Меламида. Короче, не надо разрушать, надо переосмысливать. Я бы сейчас предложил устроить конкурс на лучшее текстовое добавление к Петру I Церетели.
Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного бесславья.
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.
Можно вспомнить и Мавзолей Комара и Меламида. Короче, не надо разрушать, надо переосмысливать. Я бы сейчас предложил устроить конкурс на лучшее текстовое добавление к Петру I Церетели.
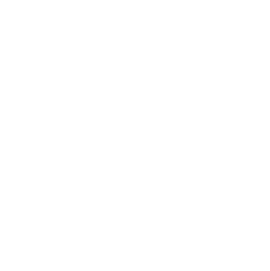
Владимир Паперный
советолог, культуролог
«Акцент на памятниках в Украине
отражает дефицит идей
у правящей группы»
отражает дефицит идей
у правящей группы»
Очевидно, что этот закон является развитием «правоустанавливающего» (по Беньямину) насилия над памятниками, которое началось в Киеве во время Майдана. В такого рода насилии и его связи с последующим законом нет ничего нового — за низвержением памятника Дзержинскому в Москве в августе 1991-го последовала провалившаяся попытка «суда над КПСС», за низвержением Ленина в центре Вильнюса( запечатленным в знаменитом видео Деймантаса Наркявичюса) последовала «декоммунизация» Литвы, в результате которой были системно уничтожены все памятники советского периода на территории республики.
«Народный» характер иконоборчества лишь оформляет то, что вскоре становится законом, а за кувалдами активистов следуют бульдозеры и службы по уборке мусора. Ничего народного и стихийного в подобном «иконоборчестве» нет изначально — наоборот, переход от борьбы за изменение общества к борьбе с его историей является верным сигналом «нормализации», перехода инициативы от уличных движений к элитам, лишь временно утратившим контроль над ситуацией. Свержение памятников еще в начале 90-х превратилось в подобие ритуального жертвоприношения, необходимого для совершения последующего успешного «транзита» в европейское, рыночное и либеральное общество.
В этом отношении акцент на памятниках в Украине отражает дефицит идей у правящей группы, пришедшей к власти на волне Майдана. Весь идиотский пакет законов, принятый Радой, не связан с действительным коллективным опытом, с противоречивой исторической памятью большой и очень разнообразной страны, но является стандартным и безликим приложением к социально-экономическим «структурным реформам», которые киевское правительство проводит под руководством МВФ и Евросоюза.
«Народный» характер иконоборчества лишь оформляет то, что вскоре становится законом, а за кувалдами активистов следуют бульдозеры и службы по уборке мусора. Ничего народного и стихийного в подобном «иконоборчестве» нет изначально — наоборот, переход от борьбы за изменение общества к борьбе с его историей является верным сигналом «нормализации», перехода инициативы от уличных движений к элитам, лишь временно утратившим контроль над ситуацией. Свержение памятников еще в начале 90-х превратилось в подобие ритуального жертвоприношения, необходимого для совершения последующего успешного «транзита» в европейское, рыночное и либеральное общество.
В этом отношении акцент на памятниках в Украине отражает дефицит идей у правящей группы, пришедшей к власти на волне Майдана. Весь идиотский пакет законов, принятый Радой, не связан с действительным коллективным опытом, с противоречивой исторической памятью большой и очень разнообразной страны, но является стандартным и безликим приложением к социально-экономическим «структурным реформам», которые киевское правительство проводит под руководством МВФ и Евросоюза.
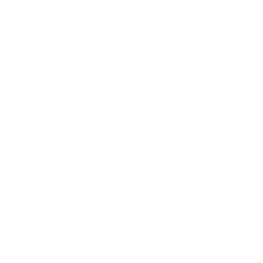
Илья Будрайтскис
историк, публицист, активист
«Альтернативой декоммунизации
я вижу критическую и наступательную
ре-коммунизацию»
я вижу критическую и наступательную
ре-коммунизацию»
Попробуем в нескольких словах продвинуться от эмоций к анализу. Первоначальной моей юношеской эмоцией в 90-е годы, при тогдашнем засилии памятников Ленину в центральных «местах власти» наших городов, было недоумение и чувство неадекватности: ведь власть-то капиталистическая и явно противоположная большевистской, почему же фигура самого страшного анти-буржуазного революционера и «вождя мирового пролетариата» гордо возвышается у мерзких антинародных административных зданий и казенных государственных учреждений, занятых беспринципными нуворишами, мелкобуржуазным сбродом и бюрократическим аппаратом? Полная противоположность тому, за что боролся этот исторический персонаж. Есть в этом некий «сюрреализм» и «несправедливость» к самому Ленину. Ведь памятник ему должен стоять не «до», а «после» свержения этой власти!..
Наступили 2000-е годы, и в новом историческом контексте «ленинопад» приобрел хронический, даже пандемический характер социальной лихорадки. Памятники Ленину теперь свергают стихийно, массово, безоглядно и по молчаливому попустительству властей. Впрочем, всегда есть небольшая группа по-экстремистски настроенных идейных исполнителей. Они ничем не отличаются от фанатичных вандалов ИГИЛ, разрушающих древние памятники былых цивилизаций. Отличие от вандалов на руинах Римской империи заключается лишь в том, что они вооружились «теорией» и «историческим смыслом». В Украине этот процесс приобрел особое название «декоммунизации». После сюрреализма 90-х приходит просвещенный нигилизм нулевых… В чем состоит современный просвещенный нигилизм «декоммунизации»? Здесь надо выделить несколько переплетенных тенденций.
Наступили 2000-е годы, и в новом историческом контексте «ленинопад» приобрел хронический, даже пандемический характер социальной лихорадки. Памятники Ленину теперь свергают стихийно, массово, безоглядно и по молчаливому попустительству властей. Впрочем, всегда есть небольшая группа по-экстремистски настроенных идейных исполнителей. Они ничем не отличаются от фанатичных вандалов ИГИЛ, разрушающих древние памятники былых цивилизаций. Отличие от вандалов на руинах Римской империи заключается лишь в том, что они вооружились «теорией» и «историческим смыслом». В Украине этот процесс приобрел особое название «декоммунизации». После сюрреализма 90-х приходит просвещенный нигилизм нулевых… В чем состоит современный просвещенный нигилизм «декоммунизации»? Здесь надо выделить несколько переплетенных тенденций.
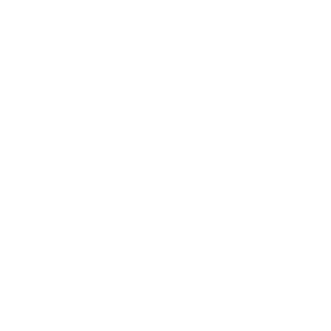
Андрей Репа
философ, переводчик, сотрудник киевского издательства «Ника-центр»
В первую очередь, он питается старой традицией антикоммунизма, ведущего генеалогию от ненависти к якобинству в XIX веке, ненависти к большевизму в XX веке. Отсюда желание восстановить сейчас «национальную элиту». Это явно антидемократическая и консервативная тенденция. Во-вторых, декоммунизация означает антисоветизм (в целом очень понятный и распространенный рефлекс на все прошлые и нынешние беды, будто бы вызванные местной формой «национального проклятья»): ненависть ко всему «совковому» – это, впрочем, и тайная ненависть к себе прошлому, к своему былому бессилию и мелкотравчатости, своей «замаранности» этим прошлым. Скажем, две самые ярые украинские националистки Оксана Забужко и Ирина Фарион в молодости состояли в рядах КПСС; «сереньких» примеров — тысячи. В-третьих, декоммунизация ассоциируется с модернизацией, европеизацией и искуплением прошлого с помощью адаптации западной версии исторического повествования. Кроме «евроокон», теперь мы демонтируем «старье» и устанавливаем новенькую «евроисторию». Измотанная и многажды обманутая страна, опьяненная своей надеждой жить по-новому, «по-европейски», одновременно одержима своим прошлым и ненавистью к ее «проклятым», сознательным или бессознательным, точкам. Примирение здесь означает «забывание» (по П. Рикеру). Память означает «память жертв» (моделью служит опыт Израиля). Помнить и примиряться при нынешних раскладах, к сожалению, означает чаще всего «забывать» и «плакаться». Безрадостная перспектива…
В этой связи альтернативой декоммунизации я вижу, как ни странно, только критическую и наступательную ре-коммунизацию. Но вовсе не как возврат к прошлому, а именно как прорыв к будущему. «Декоммунизация» (например, как десталинизация) в Украине действительно необходима, но вовсе не такая, как нам ее навязывают – через пещерный популизм политиков и сущностно «совковые» антидемократические указы сверху, через невежество экспертов и журналистов «купленных» СМИ, избиения на улицах и преследования инакомыслящих, уничтожение памятников истории втихую, без общественного обсуждения и переосмысления… Нам нужен серьезный, компетентный анализ, дискуссия на уровне независимого ученого сообщества. Нам необходимо незашоренное, непропагандистское знание. Иначе все будет напоминать очередную «ломку через колено». В конце концов, нам нужна декоммунизация ради спасения самого коммунизма. Ибо мы рискуем выплеснуть с грязной водой нашей истории ценнейшее политическое дитя свободы, равенства и братства, заложенной в коммунистических идеях и практиках.
В этой связи альтернативой декоммунизации я вижу, как ни странно, только критическую и наступательную ре-коммунизацию. Но вовсе не как возврат к прошлому, а именно как прорыв к будущему. «Декоммунизация» (например, как десталинизация) в Украине действительно необходима, но вовсе не такая, как нам ее навязывают – через пещерный популизм политиков и сущностно «совковые» антидемократические указы сверху, через невежество экспертов и журналистов «купленных» СМИ, избиения на улицах и преследования инакомыслящих, уничтожение памятников истории втихую, без общественного обсуждения и переосмысления… Нам нужен серьезный, компетентный анализ, дискуссия на уровне независимого ученого сообщества. Нам необходимо незашоренное, непропагандистское знание. Иначе все будет напоминать очередную «ломку через колено». В конце концов, нам нужна декоммунизация ради спасения самого коммунизма. Ибо мы рискуем выплеснуть с грязной водой нашей истории ценнейшее политическое дитя свободы, равенства и братства, заложенной в коммунистических идеях и практиках.
«Запрет коммунистической идеологии
является инструментом построения
право-авторитарного режима»
является инструментом построения
право-авторитарного режима»
Запрет коммунистической идеологии является стандартным инструментом построения правовой базы для право-авторитарного режима. Это делалось во всех странах, где правящие круги стремились радикально ограничить гражданские и культурные свободы. Дело даже не в том, что приравнивание коммунизма к фашизму исторически несправедливо хотя бы потому, что существуют нетоталитарные версии коммунистического движения и практики (те же компартии в составе западных демократических коалиций и т.д.), но прежде всего в том, что это лишь идеологическая отмазка.
Принципиально важно, что в отличие от фашизма, границы «коммунистической» идеологии очень трудно определить. Под этот запрет неминуемо попадет любой социолог, который читает лекции про Маркса (иными словами, вообще социология как наука), любой интеллектуал, который процитировал Жижека и любой социал-демократ, который упомянет классовые интересы. Затем под запрет попадают те либералы, которые считают допустимым чтение «Капитала» в академических целях, и те правозащитники, которым кажется, что власти были не совсем правы, расстреляв умеренных либералов, вступившихся за своих коллег с кафедры социологии, которые были расстреляны ранее.
Принципиально важно, что в отличие от фашизма, границы «коммунистической» идеологии очень трудно определить. Под этот запрет неминуемо попадет любой социолог, который читает лекции про Маркса (иными словами, вообще социология как наука), любой интеллектуал, который процитировал Жижека и любой социал-демократ, который упомянет классовые интересы. Затем под запрет попадают те либералы, которые считают допустимым чтение «Капитала» в академических целях, и те правозащитники, которым кажется, что власти были не совсем правы, расстреляв умеренных либералов, вступившихся за своих коллег с кафедры социологии, которые были расстреляны ранее.
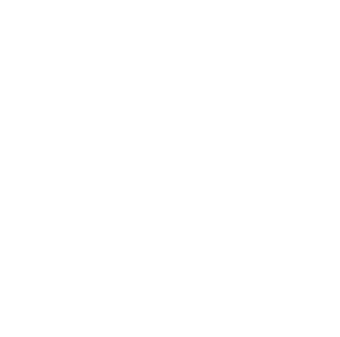
Борис Кагарлицкий
политолог, редактор сайта «Рабкор»
«Борьба с мозаиками есть
ревитализация их в качестве
политического искусства»
ревитализация их в качестве
политического искусства»
Недавно я была на екатеринбургском симпозиуме, посвященном архитектуре конструктивизма, где наблюдался консенсус по поводу руинизирующегося наследия. А именно: конструктивизм стоит любыми путями сохранить, что непросто, ибо власть и деньги имущие отказываются признавать ценность этих ветшающих построек. Звучали пассажи о том, что представители бизнеса оценивают конструктивизм как неинтересную «архитектуру для бедных», — в то время, как многие участники симпозиума (ученые и архитекторы) определяли ее как элитарное «искусство для не для всех». Я тогда высказалась, что больше согласна с оценками оппонентов, признающих имманентную классовую составляющую этого архитектурного стиля, чем с ценителями «эстетической поверхности».
Также и в ситуации с коммунистической символикой в Украине мне ближе позиция разрушителей, нежели тех, кто «настаивает» на «исследовании культурной ценности художественного оформления станций киевского метрополитена» (в ответ на призыв депутатов демонтировать советские мозаики). В Штабе мы тоже занимались исследованием советских мозаик, но не как эстетических артефактов, а как продукции проекта «Искусство как общее» и «Город как общее». При элиминации же политической составляющей – если пытаться отделить неудобное политическое от респектабельного эстетического – последнее, на мой взгляд, теряет смысл. Супермаркет в конструктивистском здании (на екатеринбургском симпозиуме, желая придать этим постройкам современную функциональность, предлагали даже церковь там разместить) сведет всю ценность форм к нулю. Конструктивистские формы прекрасны не «сами по себе», но их прекрасность неотъемлема от утопического заряда. При рыночной утилизации такое здание, на мой взгляд, погибнет более трагически, нежели при сносе.
Советские мозаики в киевском метро красивы; мне будет жаль, если их уничтожат (впрочем, в нашей реальности тотальной архивации, дигитализации и «бедных картинок» (см. текст Хито Штейерль) уничтожение оригинала – не такая уж и трагедия). Вместе с тем, борьба с мозаиками под лозунгом «борьбы с коммунистической символикой» есть своего рода ревитализация их в качестве политического искусства, обнажение политического. Искусство вступает на передний край политической борьбы, и это в известной степени позитивный процесс.
Также и в ситуации с коммунистической символикой в Украине мне ближе позиция разрушителей, нежели тех, кто «настаивает» на «исследовании культурной ценности художественного оформления станций киевского метрополитена» (в ответ на призыв депутатов демонтировать советские мозаики). В Штабе мы тоже занимались исследованием советских мозаик, но не как эстетических артефактов, а как продукции проекта «Искусство как общее» и «Город как общее». При элиминации же политической составляющей – если пытаться отделить неудобное политическое от респектабельного эстетического – последнее, на мой взгляд, теряет смысл. Супермаркет в конструктивистском здании (на екатеринбургском симпозиуме, желая придать этим постройкам современную функциональность, предлагали даже церковь там разместить) сведет всю ценность форм к нулю. Конструктивистские формы прекрасны не «сами по себе», но их прекрасность неотъемлема от утопического заряда. При рыночной утилизации такое здание, на мой взгляд, погибнет более трагически, нежели при сносе.
Советские мозаики в киевском метро красивы; мне будет жаль, если их уничтожат (впрочем, в нашей реальности тотальной архивации, дигитализации и «бедных картинок» (см. текст Хито Штейерль) уничтожение оригинала – не такая уж и трагедия). Вместе с тем, борьба с мозаиками под лозунгом «борьбы с коммунистической символикой» есть своего рода ревитализация их в качестве политического искусства, обнажение политического. Искусство вступает на передний край политической борьбы, и это в известной степени позитивный процесс.

Оксана Шаталова
художественная руководительница Школы теории и активизма-Бишкек (Штаб)
«Новый украинский субъект
невозможен без пассионарной
привязанности к Другому»
невозможен без пассионарной
привязанности к Другому»
Когда закон о запрете коммунистической и нацисткой символики в Украине еще только обсуждался и социальные сети переживали очередной всплеск развития речи-ненависти, делящей одну украинскую политическую субъективность на «фашистов» («нацистов») и «ватников» («коммунистов»), я вспомнила о критикуемом Деррида «русском шпионе» А. Кожеве с его трактовкой самосознания в книге «Введение в чтение Гегеля». Исходным основанием для воспоминания именно о Кожеве послужила фиксируемая им в философии Гегеля констатация факта фундаментальной неудовлетворённости наличным.

Ирина Жеребкина
философ, директор Харьковского центра гендерных исследований
Почему у меня возникла странная на первый взгляд ассоциация украинской политической ситуации с философией самосознания именно Кожева? Потому что вряд ли можно отрицать, что факт фундаментальной неудовлетворённости наличным, являясь причиной закона о запрете коммунистической и нацисткой символики в Украине, свойствен не только множественным украинским майданам, но и украинской постмайданной гражданской войне в соцсетях. Если вспомнить, что у Кожева в начале книги «Введение в чтение Гегеля» именно неудовлетворенность наличным является причиной превращения живущего самоощущением животного в обретающего самосознание человека, то вряд ли столь неожиданным покажется возникшее у меня связывание в одну линию фрейдовской сверхдетерминации не только философии против наличного бытия Кожева и философии против наличного бытия украинских майданов, но и философии самосознания Кожева с законами о декоммунизации и антинацизме в Украине. Критерий показался очевидным — желание перестать быть животной/ым и обрести наконец самосознание (и связанное именно с ним в иудео-христианской традиции мышления достоинство, т.е. вожделенную национальную гідність).
«Не быть тем, что субъект есть, а быть тем, что субъект не есть», — так формулирует Кожев критерий, помогающий политической субъективности перестать быть животной/ым.
«Не быть тем, что субъект есть, а быть тем, что субъект не есть», — так формулирует Кожев критерий, помогающий политической субъективности перестать быть животной/ым.
Такую предложенную Кожевым структуру несамотождественной субъективности Лакан, как известно, назвал расщепленной субъективностью*, в то время как Деррида, критикуя Кожева, но и одновременно продолжая тезис Жана Ипполита о самоотрицании субъективности в практиках «несчастного сознания», говорит об автоиммунитете. Понятию автоиммунитета посвящена книга Деррида «Разбойники»*, в которой анализируется способность субъективности действовать против другого, которая в то же время обращается против самого субъекта. Идентичность «я», с одной стороны, требует отсылки к Другому; с другой — эта отсылка способна разрушить собственную идентичность (в том числе всё ещё искомую и в Украине 2015 года гідність).
Добавим ещё одну теорию автоиммунитета. Это теория «хрупкой жизни» Джудит Батлер в современных, называемых ею «социальными» онтологиях*. Моя жизнь настолько хрупка, пишет Батлер, насколько «я» как субъект «всегда уже нахожусь в руках другого». Но если «я уже в руках другого», «я» теряю прерогативу считать мои действия конститутивно «моими собственными». Дерридианский механизм автоиммунитета Батлер анализирует на примере функционирования механизма «меланхолийного гендера». Меланхолийность гендера у Батлер является синонимом негативности субъективности в том смысле, что показывает, что любая субъективность базируется на логике «двойного отказа»*. С одной стороны, это отказ признать, что в структуру «я» всегда входит другой («наше отношение с другими») как так называемый утраченный объект (материнский; в терминах гендерной теории Батлер — гомосексуальный).
С другой стороны, меланхолийность сигнализирует о том, что отношение «я» и другого является всегда апоретическим отношением инкорпорирования отторгнутого (парадокс процедуры отторжения состоит в том, что субъект не просто отторгает, но инкорпорирует отторгнутое — по аналогии с действием фрейдовского механизма «отрицания», Verneinung). Неожиданным в данном случае оказывается столь важный и для Деррида парадокс, что сама субъективность требует неизбежной отсылки к Другому: только эта отсылка и формирует, оказывается, идентичность «я».
С другой стороны, меланхолийность сигнализирует о том, что отношение «я» и другого является всегда апоретическим отношением инкорпорирования отторгнутого (парадокс процедуры отторжения состоит в том, что субъект не просто отторгает, но инкорпорирует отторгнутое — по аналогии с действием фрейдовского механизма «отрицания», Verneinung). Неожиданным в данном случае оказывается столь важный и для Деррида парадокс, что сама субъективность требует неизбежной отсылки к Другому: только эта отсылка и формирует, оказывается, идентичность «я».
* Antigone's Claim: A Conversation with Judith Butler. Pierpaolo Antonello and Roberto Farneti.
* Батлер Джудит. Психика власти: теории субъекции
* Батлер Джудит. Психика власти: теории субъекции
Как показывает Батлер, логическая структура «двойного отказа» «меланхолийного гендера» на основе формулы «никогда-никогда»* лежит в основе отношения самоидентификации, понимаемой в качестве «пассионарной привязанности». Эта отсылка к Другому деконструирует идентичность (ближе к нашей теме — «само-убийственную войну» с коммунизмом или нацизмом в Украине), но без пассионарной привязанности к Другому субъект тем не менее невозможен как субъект (новый украинский вне нацизма и коммунизма).
В результате действия логики двойного отказа «никогда-никогда» и возникает известная батлеровская характеристика идентичности как негативной — в том числе как неидентифицируемой в терминах метафизики представления: батлеровский субъект никогда не является окончательно сконструированным, но субъективируется и производится властью вновь и вновь (сексуальностью, признанием, революцией, желанием) в качестве постоянной возможности ресигнификативных процессов, иначе говоря, в качестве политического существа. Эту характеристику можно, на наш взгляд, применить к постмайданной украинской политической субъективности.
В результате действия логики двойного отказа «никогда-никогда» и возникает известная батлеровская характеристика идентичности как негативной — в том числе как неидентифицируемой в терминах метафизики представления: батлеровский субъект никогда не является окончательно сконструированным, но субъективируется и производится властью вновь и вновь (сексуальностью, признанием, революцией, желанием) в качестве постоянной возможности ресигнификативных процессов, иначе говоря, в качестве политического существа. Эту характеристику можно, на наш взгляд, применить к постмайданной украинской политической субъективности.
* «Мужчина, настаивающий на цельности своей гетеросексуальности, будет утверждать, что он никогда не любил другого мужчину и, следовательно, никогда его не терял».
В результате всё «человеческое» у Батлер сконструировано через интерсубъективные связи с другими. Интерсубъективное и значит знаменитое батлеровское «меланхолийное» (потерю первоначального желания), которое приходит к самосознанию через признание другого, своего желания к другому, а значит — потерю «себя» как «я». Такое отношение является так же, как и у Кожева или постмайданной украинской субъективности, экстатическим: ведь в акте признания другого «я» становлюсь гіднім «я» только через некое экстатическое движение, которое движет «меня» за пределы, вовне «меня» — в сферу, в которой «я», с одной стороны, не владею собой и в то же время, с другой стороны, конституируюсь как субъект*. В результате возникает батлеровское понятие меланхолийной связности (когда и «я», и другой являются неизбежно частичными субъективностями), которое указывает на такое измерение интерсубъективности как нетотализующая связанность (коммунизм и отказ от него, нацизм и отказ от него). В этом смысле Батлер тем не менее рассматривает меланхолию не как действие в терминах страдания, но как потенциал аффирмативного перформативного и в этом смысле политического действия (скажем, декоммунизации и антинацизма).
* Butler Judith. Foucault's Critical Account on Himself // Giving Account of Oneself
