интервью
«Театр учит людей умнеть»
Трагедии XX века, принципиально новые научные теории, появление и развитие самых разных технологий формируют вопросы, которые ставят перед собой современные художники, и способы взаимодействия с аудиторией. T&P поговорили с театральным критиком Павлом Рудневым о том, что с этой точки зрения происходит с театром: об игре как актуальном учебном формате, этике, социальной ответственности и, главное, о том, чему театр может научить сегодня.
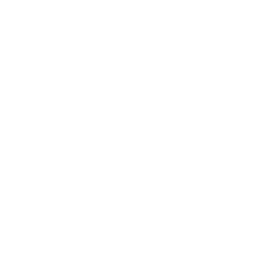
Павел Руднев
Театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам, преподаватель. Кандидат искусствоведения. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа, специализируется на современной драматургии. Член жюри драматургических премий.
— Начну с глобального вопроса не про театр, а про игру как таковую. «Специалист», из которого система образования выбивает творческий подход и потенциал, который делает только то, чему его научили, теперь не особо востребован, а игра как раз учит адаптироваться к переменам. Кроме того, мы живем в глобальном мире — межкультурном и междисциплинарном — и нуждаемся в некоем поле, где, грубо говоря, физики могут общаться с лириками, граница между которыми тоже стирается. Это поле — культура, система взаимоотношений, которая возникает в игровом процессе. Игра в принципе свойственна человеческой природе. Что вы думаете по поводу актуализации игры как образовательного формата? Что наблюдаете?
— ХХ век поставил перед искусством задачу изучения безгранично разнообразных способов восприятия. Интерес художника сместился: важно не столько диктовать миру свои художественные стратегии, а учитывать в процессе создания произведения чужое восприятие, работать с ним, изучать, как действует этот механизм. Эта тема стала главной для любой культурологической и антропоцентрической практики. Как человек по-разному воспринимает этот мир, и как нам эти восприятия учесть? Как понять восприятие другого? Не навязать свою модель, а распознать чужой способ восприятия мира? Поэтому ХХ век в большей степени интересовался аномалией, нежели нормой. Но и искусство чаще всего направлено на изучение аномального, крайностей, а не типического. С другой стороны, к тому же самому подводит важнейшая технология, которая была изобретена на рубеже прошлых веков, — фрейдизм, который открывает потаенный ресурс внутри человека, расшифровывает бессознательное. Фрейд говорит, что психоанализ действует лучше всего, когда ты сам себе психоаналитик, когда методология анализа становится повседневной бытовой практикой, как измерение температуры. Психоаналитик не является доктором в нашем понимании, он не выписывает стратегию выздоровления и вообще не вторгается насильственно в сознание и подсознание пациента. Запрещено даже его касаться. Аналитик разговаривает с тобой таким образом, что ты лечишь сам себя, он раскрывает скрытый внутренний потенциал человека. Эта модель полностью переворачивает модель искусства, меняет отношения внутри конвенции «художник — зритель». Художник больше не хочет быть диктатором смыслов, организатором чужого восприятия. Он запускает в зрителе механизм рефлексии и самоанализа.
Когда сегодня к театру предъявляют претензии вроде «вы мне не дали никакой стратегии в финале, вы распахнули передо мною житейский ад, но не показали тропинку наверх», то это претензия, безусловно, из ХIХ века. Потому что перед современным художником не стоит вопрос предъявления какой-то стратегии. Современный художник (и это вторая причина, почему игра важна сегодня) знает политическое наследие ХХ века, главный итог двух мировых войн — даже не столько антифашизм и антимилитаризм, сколько отказ от любых коллективных форм спасения. Это Бродский гениально формулирует в нобелевской лекции: «Скорее всего, мир нам уже не спасти, но спасти одного человека можно». Этим и занимается сегодня искусство, не предлагая коллективных стратегий («В рай стадом не войти»), потому что за каждой коллективной формой стоит потенция тоталитаризма. Каждая доктрина, обращенная к народу, нации, общности, может перерасти в тоталитарную агрессию. Искусство занимается индивидуальностью. Как только ты начинаешь изобретать рай для всех, он быстро превращается в газовую камеру или тюремную клетку. Поэтому искусство, понятое как игра, дает нам возможность заставить зрителя работать над изобретением своей собственной стратегии выживания. Как тот психоаналитик, включающий механизмы, которые существуют абсолютно у каждого в сознании, запуская тем самым какую-то внутреннюю реакцию. Художник передоверяет зрителю функцию понимания.
— ХХ век поставил перед искусством задачу изучения безгранично разнообразных способов восприятия. Интерес художника сместился: важно не столько диктовать миру свои художественные стратегии, а учитывать в процессе создания произведения чужое восприятие, работать с ним, изучать, как действует этот механизм. Эта тема стала главной для любой культурологической и антропоцентрической практики. Как человек по-разному воспринимает этот мир, и как нам эти восприятия учесть? Как понять восприятие другого? Не навязать свою модель, а распознать чужой способ восприятия мира? Поэтому ХХ век в большей степени интересовался аномалией, нежели нормой. Но и искусство чаще всего направлено на изучение аномального, крайностей, а не типического. С другой стороны, к тому же самому подводит важнейшая технология, которая была изобретена на рубеже прошлых веков, — фрейдизм, который открывает потаенный ресурс внутри человека, расшифровывает бессознательное. Фрейд говорит, что психоанализ действует лучше всего, когда ты сам себе психоаналитик, когда методология анализа становится повседневной бытовой практикой, как измерение температуры. Психоаналитик не является доктором в нашем понимании, он не выписывает стратегию выздоровления и вообще не вторгается насильственно в сознание и подсознание пациента. Запрещено даже его касаться. Аналитик разговаривает с тобой таким образом, что ты лечишь сам себя, он раскрывает скрытый внутренний потенциал человека. Эта модель полностью переворачивает модель искусства, меняет отношения внутри конвенции «художник — зритель». Художник больше не хочет быть диктатором смыслов, организатором чужого восприятия. Он запускает в зрителе механизм рефлексии и самоанализа.
Когда сегодня к театру предъявляют претензии вроде «вы мне не дали никакой стратегии в финале, вы распахнули передо мною житейский ад, но не показали тропинку наверх», то это претензия, безусловно, из ХIХ века. Потому что перед современным художником не стоит вопрос предъявления какой-то стратегии. Современный художник (и это вторая причина, почему игра важна сегодня) знает политическое наследие ХХ века, главный итог двух мировых войн — даже не столько антифашизм и антимилитаризм, сколько отказ от любых коллективных форм спасения. Это Бродский гениально формулирует в нобелевской лекции: «Скорее всего, мир нам уже не спасти, но спасти одного человека можно». Этим и занимается сегодня искусство, не предлагая коллективных стратегий («В рай стадом не войти»), потому что за каждой коллективной формой стоит потенция тоталитаризма. Каждая доктрина, обращенная к народу, нации, общности, может перерасти в тоталитарную агрессию. Искусство занимается индивидуальностью. Как только ты начинаешь изобретать рай для всех, он быстро превращается в газовую камеру или тюремную клетку. Поэтому искусство, понятое как игра, дает нам возможность заставить зрителя работать над изобретением своей собственной стратегии выживания. Как тот психоаналитик, включающий механизмы, которые существуют абсолютно у каждого в сознании, запуская тем самым какую-то внутреннюю реакцию. Художник передоверяет зрителю функцию понимания.
«Театр показывает бесконечную изменчивость человеческой природы, ее неоднозначность и неопределенность»
В этом смысле театр сегодня отказывается от дидактических форм общения со зрительным залом, переходит к игровой коммуникативной модели. Очень точно и ясно это формулирует Ханс-Тис Леман в книге «Постдраматический театр». Все очень просто. Драматический классический театр — это театр-story, то есть театр сюжета, который всегда имеет линейность: завязку, развязку и вывод. Автор здесь ведет зрителя по лабиринту, который он сам изобрел, без возможности самостоятельного поворота. Художник как манипулятор. Постдраматическая культура — это театр-game. Театр как игра. Художник предлагает варианты с неоднозначным смыслом, а зритель выбирает. Это разрозненные фрагменты реальности, рассыпанные по полу детали Lego, которые можно собрать как угодно. Хотя Lego, наверное, не очень хороший пример, потому что он всегда собирается в…
— Что-то определенное.
— Да, вот если б перемешать несколько разных наборов Lego и убрать схему сборки, то похоже. Это важно с точки зрения культурологии.
— Театральная педагогика возникла в 70-х годах, через какое-то время отделилась в отдельную дисциплину и в последнее десятилетие очень активно развивается в Европе, в частности в Германии. БДТ в Петербургском педагогическом университете делает нечто подобное. Как театральные инструменты применяются в образовательной сфере?
— Я не очень хорошо знаю про Запад, готов говорить про российский опыт. Здесь, мне кажется, есть два очень важных момента. Нагляднее всего это происходит в так называемом инклюзивном театре — театре, который работает с людьми с ограниченными возможностями. Это и есть одно из проявлений интереса к аномалии как таковой. С одной стороны, мы здесь воспринимаем театр как арт-терапию, инклюзию — вхождение человека с ограниченными возможностями в общую систему, что помогает обществу стать более цельным и чувствительным к боли «иного», а человеку с ограниченными возможностями адаптироваться к миру. Что делает инклюзивный театр именно искусством? То, что мы через контакт с людьми с совершенно другим восприятием изучаем их опыт, их художественное мышление, лишенное зачастую стереотипов
«большого мира». Неслучайно искусство последних лет очень пристально смотрит на аутизм как на социальный феномен (равным образом как и на феномен синестезии как аномального восприятия). Социофобия становится очень серьезным поводом для размышления сегодняшнего художника.
— Что-то определенное.
— Да, вот если б перемешать несколько разных наборов Lego и убрать схему сборки, то похоже. Это важно с точки зрения культурологии.
— Театральная педагогика возникла в 70-х годах, через какое-то время отделилась в отдельную дисциплину и в последнее десятилетие очень активно развивается в Европе, в частности в Германии. БДТ в Петербургском педагогическом университете делает нечто подобное. Как театральные инструменты применяются в образовательной сфере?
— Я не очень хорошо знаю про Запад, готов говорить про российский опыт. Здесь, мне кажется, есть два очень важных момента. Нагляднее всего это происходит в так называемом инклюзивном театре — театре, который работает с людьми с ограниченными возможностями. Это и есть одно из проявлений интереса к аномалии как таковой. С одной стороны, мы здесь воспринимаем театр как арт-терапию, инклюзию — вхождение человека с ограниченными возможностями в общую систему, что помогает обществу стать более цельным и чувствительным к боли «иного», а человеку с ограниченными возможностями адаптироваться к миру. Что делает инклюзивный театр именно искусством? То, что мы через контакт с людьми с совершенно другим восприятием изучаем их опыт, их художественное мышление, лишенное зачастую стереотипов
«большого мира». Неслучайно искусство последних лет очень пристально смотрит на аутизм как на социальный феномен (равным образом как и на феномен синестезии как аномального восприятия). Социофобия становится очень серьезным поводом для размышления сегодняшнего художника.
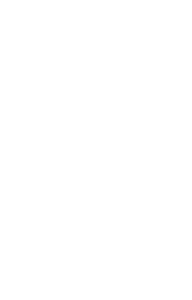
Ханс-Тис Леман «Постдраматический театр»
Это проявляется не только в авангардном театре и искусстве, но и в массовой культуре. Например, широко известен роман Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки» — в Москве можно увидеть спектакль в
«Современнике», а также он стал поводом к одному из самых посещаемых мюзиклов Вест-Энда (за три месяца нельзя купить билеты). Мюзикл действительно очень крутой и современный, в нем на примере аутизма связывается то, о чем вы говорите: технический вопрос и искусство. Мальчик-аутист воспринимает мир через алгебраические величины, через мир цифр, одновременно и рациональный, и иррациональный. Мы видим нелинейные, неевклидовы способы восприятия — в том числе и наглядно: через сценографию, устройство сцены. Аутизм — совершенно инаковый способ измерять время и пространство, лишенный наших социальных конвенций.
«Современнике», а также он стал поводом к одному из самых посещаемых мюзиклов Вест-Энда (за три месяца нельзя купить билеты). Мюзикл действительно очень крутой и современный, в нем на примере аутизма связывается то, о чем вы говорите: технический вопрос и искусство. Мальчик-аутист воспринимает мир через алгебраические величины, через мир цифр, одновременно и рациональный, и иррациональный. Мы видим нелинейные, неевклидовы способы восприятия — в том числе и наглядно: через сценографию, устройство сцены. Аутизм — совершенно инаковый способ измерять время и пространство, лишенный наших социальных конвенций.
Трейлер спектакля «Загадочное ночное убийство собаки». Apollo Theatre, Лондон
Трейлер спектакля «Отдаленная близость». Центр драматургии и режиссуры, Москва
Другой пример — значимый спектакль «Отдаленная близость» Андрея Афонина в Центре драматургии и режиссуры со студией «Круг II». Это российско-немецкий проект, созданный вместе с Гердом Хартманном, режиссером, который много лет занимается инклюзивным театром. Мы одновременно видим на сцене людей с ограниченными возможностями и профессиональных танцовщиков, которые являются дублерами основных исполнителей. Это театр, где тексты, написанные аутистами, ложатся на пластический рисунок, который напоминает современную хореографию. Действие происходит на фоне ярких задников, которые демонстрируют краски советского авангарда 20-х годов. Это танец на двоих, где один человек поддерживает другого. И это становится как эстетическим феноменом, так и наглядным инструментом адаптации, поддержки общества. Это еще и разговор о невозможности достижении совершенства: мы узнаем себя в перформерах, потому что всегда стремимся быть похожими на некий образец, но никогда не можем его достичь. «Человек — это бог на протезах», — говорил Ницше.
Еще один, более наглядный пример — спектакль «Майская ночь» Каролины Жерните в театре кукол на Спартаковской. Это театр кукол для слепых. На сцене стоят восемь кресел, на них сидят люди с ограниченными возможностями зрения. Артисты разыгрывают гоголевскую повесть прежде всего для них с помощью аудиоэффектов, движений, запахов, прикосновений, брызг и текста. Помимо партера из этих восьми человек в зале есть и обычный партер, откуда следят за восприятием восприятия, за тем, как искусство влияет на людей, как обществу можно взаимодействовать с людьми с ограниченным зрением. После спектакля была дискуссия, на которой зрители говорили об уникальном опыте, о чувстве, которое они испытали впервые. Этот опыт восприятия чужого восприятия помогает нам осознать, как чувствует мир другой человек.
Еще в прошлом году была лаборатория инклюзивного театра с участием разных школ — Школы-студии МХАТ, Щукинского училища, ГИТИСа и артистов инклюзивного театра. Самой интересной получилась «Женитьба», сделанная режиссером Михаилом Фейгиным с ГИТИСом. Гоголевская пьеса — о чувстве сиротства, богооставленности, которое есть у русского человека. Он как вечный сирота, который не может найти себе пристанище. Бесприютность героя, его безотцовство, в каком-то смысле. Это разговор о том, как один человек не слышит другого, как он его не принимает. Гоголевским героям (всем без исключения, женихам и невесте) свойственно ощущение несовершенства собственной природы, ущемленности. Осознание этого и делает их неспособными к коммуникации. Они так стесняются своей «ущербности», что не способны пойти на контакт с противоположным полом. Когда актриса перечисляет «если бы мне нос Яичницы соединить со ртом Подколесина», становится очевидно, что этот психоз, связанный с недостатками телесности, касается всех нас. Мы все — в тисках глянцевой культуры, все переживаем несовершенство нашего тела. Переживания человека с ограниченными возможностями — это наши же неосознанные переживания, которые эти люди обостряют — говорят о проблемах, касающихся всего общества. Это важный вывод, который может предъявить инклюзивный театр очень многим людям, которые отказываются считать такой театр искусством. Но опыт доказывает, что можно совмещать образовательную технологию и художественные приемы.
— Как это работает в обычном драматическом театре?
— В спектакле «Топливо» соединяются театр и наука — это как раз тема, волнующая молодого режиссера Семена Александровского. Здесь идет разговор о том, как наука преобразует Вселенную, и том, как техника меняет органику, восприятие. В основе спектакля — серия интервью с легендарным основателем российской компании ABBYY Давидом Яном, которая поднялась на изобретении нужных людям компьютерных программ: Lingvo и FineReader. Русский предприниматель китайского происхождения рассказывает о том, как оформлялась его детская мечта остановить мгновение, как зарождается дух предпринимательства и сжигается топливо — идеи, которые управляют миром, мотивируют человека. В сущности это монолог счастливого человека, прекрасно реагирующего на вызовы времени и размышляющего о физике жизни: как она устроена и каким законам подчиняется. Спектакль становится своеобразным мастер-классом по продвижению идей и одновременно уверением аудитории в том, что в XXI веке не власть, не тупая сила, не сила денег управляют миром, а интеллектуальные конструирования, изобретение вещей, которые помогают жить. Информационные технологии как новые средства коммуникации. Одна из таких — флешмоб, в структуре которого Давид Ян видит волшебство остановленного мгновения и тяготение общества к самоорганизации. Этот гимн человеческому сознанию, преобразующему Вселенную, обернут еще и в любопытные сценические формы. Артист Максим Фомин (его голос, его жестикуляция) словно бы ведет непрерывный диалог-конфликт со своим виртуальным двойником, явленном в видео- и аудиотрансляции. Человек реальный конфликтует со своим кибер-двойником, дополняет его.
Еще в прошлом году была лаборатория инклюзивного театра с участием разных школ — Школы-студии МХАТ, Щукинского училища, ГИТИСа и артистов инклюзивного театра. Самой интересной получилась «Женитьба», сделанная режиссером Михаилом Фейгиным с ГИТИСом. Гоголевская пьеса — о чувстве сиротства, богооставленности, которое есть у русского человека. Он как вечный сирота, который не может найти себе пристанище. Бесприютность героя, его безотцовство, в каком-то смысле. Это разговор о том, как один человек не слышит другого, как он его не принимает. Гоголевским героям (всем без исключения, женихам и невесте) свойственно ощущение несовершенства собственной природы, ущемленности. Осознание этого и делает их неспособными к коммуникации. Они так стесняются своей «ущербности», что не способны пойти на контакт с противоположным полом. Когда актриса перечисляет «если бы мне нос Яичницы соединить со ртом Подколесина», становится очевидно, что этот психоз, связанный с недостатками телесности, касается всех нас. Мы все — в тисках глянцевой культуры, все переживаем несовершенство нашего тела. Переживания человека с ограниченными возможностями — это наши же неосознанные переживания, которые эти люди обостряют — говорят о проблемах, касающихся всего общества. Это важный вывод, который может предъявить инклюзивный театр очень многим людям, которые отказываются считать такой театр искусством. Но опыт доказывает, что можно совмещать образовательную технологию и художественные приемы.
— Как это работает в обычном драматическом театре?
— В спектакле «Топливо» соединяются театр и наука — это как раз тема, волнующая молодого режиссера Семена Александровского. Здесь идет разговор о том, как наука преобразует Вселенную, и том, как техника меняет органику, восприятие. В основе спектакля — серия интервью с легендарным основателем российской компании ABBYY Давидом Яном, которая поднялась на изобретении нужных людям компьютерных программ: Lingvo и FineReader. Русский предприниматель китайского происхождения рассказывает о том, как оформлялась его детская мечта остановить мгновение, как зарождается дух предпринимательства и сжигается топливо — идеи, которые управляют миром, мотивируют человека. В сущности это монолог счастливого человека, прекрасно реагирующего на вызовы времени и размышляющего о физике жизни: как она устроена и каким законам подчиняется. Спектакль становится своеобразным мастер-классом по продвижению идей и одновременно уверением аудитории в том, что в XXI веке не власть, не тупая сила, не сила денег управляют миром, а интеллектуальные конструирования, изобретение вещей, которые помогают жить. Информационные технологии как новые средства коммуникации. Одна из таких — флешмоб, в структуре которого Давид Ян видит волшебство остановленного мгновения и тяготение общества к самоорганизации. Этот гимн человеческому сознанию, преобразующему Вселенную, обернут еще и в любопытные сценические формы. Артист Максим Фомин (его голос, его жестикуляция) словно бы ведет непрерывный диалог-конфликт со своим виртуальным двойником, явленном в видео- и аудиотрансляции. Человек реальный конфликтует со своим кибер-двойником, дополняет его.
Видеозапись спектакля «Я (не) уеду из Кирова». Театр на Спасской, Киров
Очень важный опыт — работа Бориса Павловича в кировском Театре на Спасской, который ознаменовался выдающимися, без преувеличения, экспериментами в области театральной педагогики (сейчас Борис продолжает эту линию в БДТ). Там был весьма характерный спектакль, который назывался «Я (не) уеду из Кирова». Этот спектакль вызвал сильнейший резонанс в регионе, потому что проблема миграции из северных районов России совершенно колоссальная. Павлович и артисты этого театра пошли в школы и поговорили со старшеклассниками о перспективах, будущем, карьерных приоритетах.
Часть этих монологов затем воспроизводили сами школьники на сцене, а часть — артисты. Спектакль был настолько сильный, что даже вызвал интерес губернатора: все это выросло в научную конференцию. Это часть документального театра — театр свидетельский, где человек является документом. Когда театр идет по этой технологии, то само задавание вопроса дает человеку право и возможность формулировать свою судьбу. Театр вызывает человека к диалогу, делает его объектом искусства, культуры. Быть может, до вопроса дети и не задумывались над этой проблемой. Степень осмысленности тех диалогов школьников была очень глубокой: дети говорили не как дети. Когда к ребенку или подростку приходишь с серьезными намерениями и говоришь на равных, задаешь вопросы с правильной интонацией, не со взрослой или прокурорской, которая создает ощущение допроса, то они начинают что-то формулировать для самих себя. Этот же эффект работает в зрительном зале: заданный вопрос был адресован тем, кто это искусство воспринимал. У театра, в отличие от других смежных дисциплин, есть очень важная метода, прием, который позволяет мне как зрителю разглядеть человека на сцене. Механизм идентификации, которого зачастую нет в других видах искусства. Без идентификации контакт в театре невозможен. Я вижу человека на сцене и через достоверность, правдоподобие изображения подключаюсь к его сознанию, кто-то другой становится зеркалом для меня самого. Театр действительно дает прямую физическую возможность войти в шкуру другого человека и почувствовать, что он думает, как чувствует. Эта мысль до дрожи — мы часто с родными людьми не можем поступить так же, в семье быть столь восприимчивыми, а в театре эта возможность понять другого гипотетически возможна.
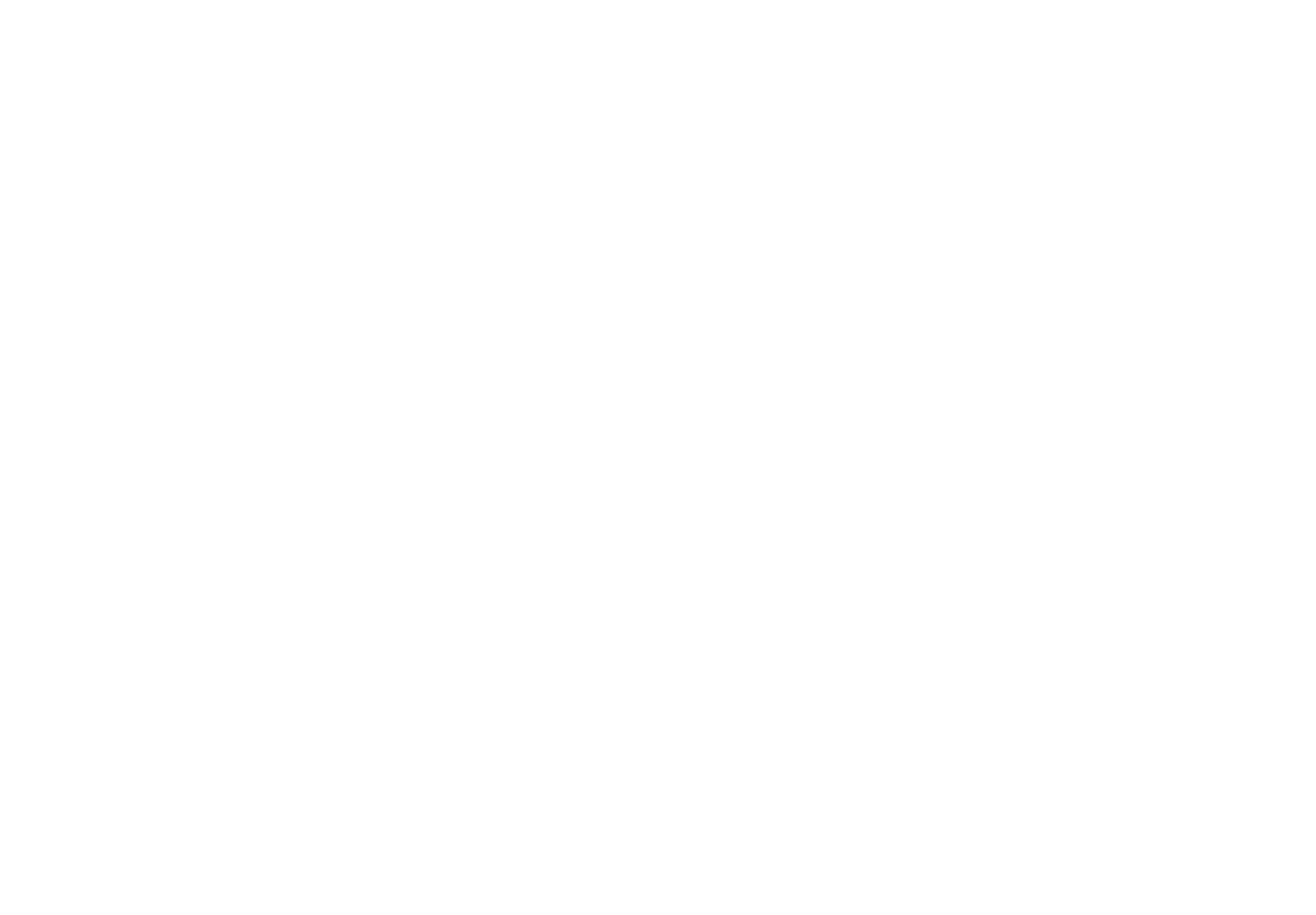
Эрих Энгель, Бертольт Брехт, Пауль Дессау, Елена Вайгель. Репетиция спектакля «Мамаша Кураж» в Немецком театре.
Причем этот механизм идентификации работает в конвенциях «актер — роль» и «актер — зритель». Театр учит всегда включать в свою точку зрения точку зрения другого. Театр не может быть монологическим, он всегда конфликтен, мы всегда видим один предмет с двух точек зрения. Поэтому главный урок театра — многослойность восприятия реальности. Театральная технология учит людей умнеть, потому что быть умным — это включать в свое восприятие точку зрения другого. Например, твоего собеседника. Ты говоришь что-то и думаешь, как твоя речь будет воспринята, а не только то, что ты говоришь. Это урок жизни с оглядкой на то, как ты выглядишь в глазах других, как одно и то же явление может быть воспринято в различных системах восприятия. Театр показывает бесконечную изменчивость человеческой природы, ее неоднозначность и неопределенность. Это и есть очень важная образовательная технология: показать мир многослойным.
— Хочу обратиться к идеям Брехта и поговорить о корреляции образования и развлечения. С одной стороны, современный театр, который требует подготовки, участия, становится неким местом мысли, противопоставлен индустрии развлечений в ее обычном понимании. С другой — в связи с огромным потоком происходящего развлечение и образование становятся по одну сторону баррикад. Листая ленту фейсбука, мы можем одновременно перейти на новость про козла и тигра и прочитать какое-нибудь культурологическое эссе. Наряду с развлечением мотивацией к образованию становятся удовольствие и комфорт. Не зря сейчас появился такой формат, как infotainment. Можно ли в связи с этим считать театр полноценной образовательной институцией? Жива ли сейчас идея Брехта о театре поучения — театре, который несет в себе образовательную ценность?
— Надеюсь, что да. Небольшие крохи нового театра, спорадически раскиданные по территории России, действуют именно так. Какие-то режиссеры действительно этим всерьез увлечены. Вопрос, сохранится ли эта культура, не станет ли она жертвой нового времени, потому что для этих технологий не хватает ресурсов. Чаще всего репертуарный — классический — дотационный театр эти формы отталкивает и воспринимает их как конкуренцию, если угодно. Тем не менее они существуют, даже в каком-то многообразии. Я бы назвал это театром социальной ответственности, которая постепенно приходит к художнику сегодня. Государство навязывает нам одни формы социальной ответственности, а мы предлагаем совершенно другие. Это какая-то новая этика театра. Он начинает сам осознавать, не дожидаясь нормативных команд, свою социальную ответственность, что нужно что-то отдавать, не только брать. Но на уровне государства это не воспринимается как общественная польза.
— Хочу обратиться к идеям Брехта и поговорить о корреляции образования и развлечения. С одной стороны, современный театр, который требует подготовки, участия, становится неким местом мысли, противопоставлен индустрии развлечений в ее обычном понимании. С другой — в связи с огромным потоком происходящего развлечение и образование становятся по одну сторону баррикад. Листая ленту фейсбука, мы можем одновременно перейти на новость про козла и тигра и прочитать какое-нибудь культурологическое эссе. Наряду с развлечением мотивацией к образованию становятся удовольствие и комфорт. Не зря сейчас появился такой формат, как infotainment. Можно ли в связи с этим считать театр полноценной образовательной институцией? Жива ли сейчас идея Брехта о театре поучения — театре, который несет в себе образовательную ценность?
— Надеюсь, что да. Небольшие крохи нового театра, спорадически раскиданные по территории России, действуют именно так. Какие-то режиссеры действительно этим всерьез увлечены. Вопрос, сохранится ли эта культура, не станет ли она жертвой нового времени, потому что для этих технологий не хватает ресурсов. Чаще всего репертуарный — классический — дотационный театр эти формы отталкивает и воспринимает их как конкуренцию, если угодно. Тем не менее они существуют, даже в каком-то многообразии. Я бы назвал это театром социальной ответственности, которая постепенно приходит к художнику сегодня. Государство навязывает нам одни формы социальной ответственности, а мы предлагаем совершенно другие. Это какая-то новая этика театра. Он начинает сам осознавать, не дожидаясь нормативных команд, свою социальную ответственность, что нужно что-то отдавать, не только брать. Но на уровне государства это не воспринимается как общественная польза.
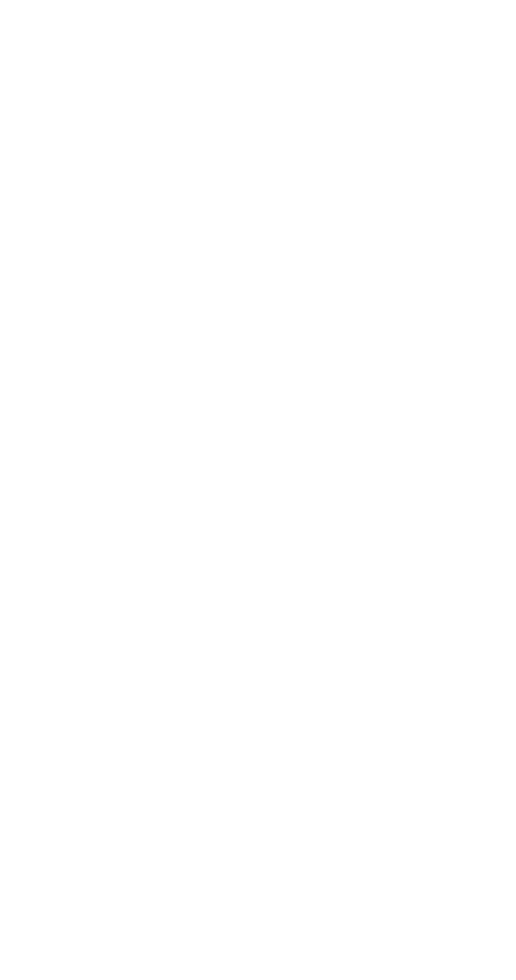
Валентин Серов. Портрет Марии Ермоловой. 1905 год
То есть театр, безусловно, включился в эту новую культуру. Все, что в последние годы происходит с театром в мире, конечно, позволяет говорить о том, что рамки отдельных жанров рушатся, театр превращается в антропологическую практику. Об этом говорят все культурологи. Искусство становится не только субстанцией, которая занимается прекрасным, — оно начинает всерьез влиять на общество, предлагая новые формы восприятия. Внутри своей театральной среды мы постоянно говорим о том, что разделение театра на драматический и театр кукол, на драму и пластический театр медленно устаревает. Галерейная культура сливается с театром. И точка этого слияния — антропологическая практика. Уходят стилевые, жанровые особенности, появляются «человековедческие» категории, формы самоорганизации общества через театр. Искусство, которое становится формой коммуникации. Общество сейчас настолько распалось на атомы, что возникает важнейшая функция социального клея, и театр с механизмом идентификации тут очень пригодился.
— Тогда воспринимает ли зритель театр как образовательную институцию? По списку курсов, которые пользуются популярностью сейчас, можно понять, что люди учатся общаться, тому, что называется soft skills — навыкам взаимодействия в команде, умению воспринимать чужое мнение и так далее. Как раз тому, о чем вы говорили.
— В какой-то степени да, в какой-то степени нет. Если с этим работать, зритель очень быстро адаптируется, а где с этим не работают, там любая новая технология не приживается. Вопрос в том, чтобы разъяснить зрителю эти новые конвенции. Современная пьеса приучила театры к постоянным дискуссиям со своим зрителем. Возникает желание прислушаться к нему, понять, что сегодня нет и не может быть морального превосходства художника над публикой. Современный театр этого не приемлет, здесь связи только горизонтальные. Зрители это чувствуют и проникаются доверием к театру, который не обращается к ним с дидактикой, пропагандой, а предлагает искусство, формирующееся по принципу «самонаполняющегося контента». Это вопрос разъяснения: если ты обладаешь какой-то технологией и зал ее не понимает, надо работать над этим — это простейший маркетинг. Во многих театрах в России за десятилетие полностью сменился зрительный зал. Это вопрос твердости и убежденности.
— Тогда воспринимает ли зритель театр как образовательную институцию? По списку курсов, которые пользуются популярностью сейчас, можно понять, что люди учатся общаться, тому, что называется soft skills — навыкам взаимодействия в команде, умению воспринимать чужое мнение и так далее. Как раз тому, о чем вы говорили.
— В какой-то степени да, в какой-то степени нет. Если с этим работать, зритель очень быстро адаптируется, а где с этим не работают, там любая новая технология не приживается. Вопрос в том, чтобы разъяснить зрителю эти новые конвенции. Современная пьеса приучила театры к постоянным дискуссиям со своим зрителем. Возникает желание прислушаться к нему, понять, что сегодня нет и не может быть морального превосходства художника над публикой. Современный театр этого не приемлет, здесь связи только горизонтальные. Зрители это чувствуют и проникаются доверием к театру, который не обращается к ним с дидактикой, пропагандой, а предлагает искусство, формирующееся по принципу «самонаполняющегося контента». Это вопрос разъяснения: если ты обладаешь какой-то технологией и зал ее не понимает, надо работать над этим — это простейший маркетинг. Во многих театрах в России за десятилетие полностью сменился зрительный зал. Это вопрос твердости и убежденности.
Лекция-концерт Арнольда Шёнберга и Теодора Адорно в Электротеатре «Станиславский»
— Если говорить об образовательных инициативах самих театров, есть лектории и лаборатории МХТ и Школы-студии МХАТ, учебная программа Электротеатра, ЦИМа. Вы много ездите по стране — расскажите, что происходит в регионах? Есть ли на это запрос?
— Не хватает молодых худруков и директоров театров, которые хорошо это понимают и у которых есть ресурсы. Я совсем не говорю про финансовую составляющую. Ресурс — это площадка и энергия свободы. Приходит молодой человек, заряженный идеей, в театр, в город, а директор не дает ему пространство, поддержку или считает образовательные технологии туфтой, потому что в госзадании они не прописаны. Там прописано «такое-то количество людей сыграло, такое-то количество людей посмотрело спектакль». То, каким театр будет — активным или пассивным, — это вопрос чистого энтузиазма, личностной заинтересованности, чем он, в принципе, и должен оставаться, а не становиться квотой от министерства культуры. Но очень часто этот чистый энтузиазм блокируется людьми, которые обладают ресурсами. Это квартирный вопрос. Человек потыкался, ему никто не дал возможности поработать, этот энтузиазм быстро погибает, и человек переезжает в столицу. Там, где появляется какой-то пассионарный лидер, моментально возникает среда. Это особенно востребовано в провинции. В Москве есть куда пойти, люди дуреют от количества событий, а в регионах любое живое пространство — всегда глоток свежего воздуха. Как только что-то возникает, сразу приходят толпы самых разных людей. Вот в городе Ижевске, который в последнее время не проявлял ничего выдающегося в театральном отношении, появляется маленький любительский театрик, они называются Les Partisans. У них нет ничего — ни помещения, ни финансирования, но они делают крутые междисциплинарные проекты. Начали с читок, потом были документальные спектакли, потом они открыли центр культурной журналистики и так далее. Но вот они пять-десять лет так, без ресурсов, потыкаются, потыкаются — и все. Проблема наличия открытых площадок в регионах, мне кажется, самая насущная. Дело не столько в грантах и деньгах, поскольку многое (да почти все) можно делать на общественных началах.
— Получается, люди, которые непосредственно занимаются театром — актеры, режиссеры, — готовы к этому?
— Если есть личность, которая это объединяет, то конечно. Уехал Павлович из Кирова, и в городе театральная жизнь затухла — ничего не происходит в течение трех лет. Хотя театры и труппа остались. Уезжает творческая личность, и все моментально заканчивается. Другой пример, который меня бесконечно увлекает, — всем известный Николай Коляда. Это очень крупный художник, очень занятой. Но он выстраивает горизонтальные связи со зрителем. Он общается с ними через блог, встречает в фойе, подает куртки после спектакля в гардеробе — он распахнут навстречу людям, тратится на них. Это способность художника стать частью зрительного зала, а не быть закрытым волшебником из башни, который появляется на публике только по праздникам.
— В конце, раз уж мы говорим про образование, не могу не спросить про театроведческое. Что сейчас с ним происходит? Требует ли оно реформирования, как оно меняется?
— С одной стороны, оно очень неплохое: можно гордиться нашими вузами, они продолжают выпускать людей, пригодных к работе. У нас по-прежнему очень хорошее полиформатное образование. Театроведы часто работают за пределами театра — культурологами, людьми, связанными с искусством, кино и так далее. Конечно, оно требует реформирования, которое невозможно сейчас, потому что существует постоянный контроль образования. Важно научить современных театроведов воспринимать свой труд не только как труд писателя, мыслителя, но и как человека, который что-то делает ручками. Так или иначе, все умеют разбирать спектакли письменно и устно. Но сегодня от театроведа требуется и кое-что другое: кураторство, способность много читать и смотреть, распознавать новое, заниматься культурными коммуникациями, связывать людей между собой, делать междисциплинарные проекты. Важен навык устного разговора, потому что все чаще ты говоришь, а не пишешь: дискуссии и встречи со зрителями очень часты, это тоже наша конкретная работа. Это и работа в Сети. Этим вещам стоит уделять больше внимания, нежели уделяется сегодня. Нужно охватывать новые полигоны для работы во имя славы театра.
— Не хватает молодых худруков и директоров театров, которые хорошо это понимают и у которых есть ресурсы. Я совсем не говорю про финансовую составляющую. Ресурс — это площадка и энергия свободы. Приходит молодой человек, заряженный идеей, в театр, в город, а директор не дает ему пространство, поддержку или считает образовательные технологии туфтой, потому что в госзадании они не прописаны. Там прописано «такое-то количество людей сыграло, такое-то количество людей посмотрело спектакль». То, каким театр будет — активным или пассивным, — это вопрос чистого энтузиазма, личностной заинтересованности, чем он, в принципе, и должен оставаться, а не становиться квотой от министерства культуры. Но очень часто этот чистый энтузиазм блокируется людьми, которые обладают ресурсами. Это квартирный вопрос. Человек потыкался, ему никто не дал возможности поработать, этот энтузиазм быстро погибает, и человек переезжает в столицу. Там, где появляется какой-то пассионарный лидер, моментально возникает среда. Это особенно востребовано в провинции. В Москве есть куда пойти, люди дуреют от количества событий, а в регионах любое живое пространство — всегда глоток свежего воздуха. Как только что-то возникает, сразу приходят толпы самых разных людей. Вот в городе Ижевске, который в последнее время не проявлял ничего выдающегося в театральном отношении, появляется маленький любительский театрик, они называются Les Partisans. У них нет ничего — ни помещения, ни финансирования, но они делают крутые междисциплинарные проекты. Начали с читок, потом были документальные спектакли, потом они открыли центр культурной журналистики и так далее. Но вот они пять-десять лет так, без ресурсов, потыкаются, потыкаются — и все. Проблема наличия открытых площадок в регионах, мне кажется, самая насущная. Дело не столько в грантах и деньгах, поскольку многое (да почти все) можно делать на общественных началах.
— Получается, люди, которые непосредственно занимаются театром — актеры, режиссеры, — готовы к этому?
— Если есть личность, которая это объединяет, то конечно. Уехал Павлович из Кирова, и в городе театральная жизнь затухла — ничего не происходит в течение трех лет. Хотя театры и труппа остались. Уезжает творческая личность, и все моментально заканчивается. Другой пример, который меня бесконечно увлекает, — всем известный Николай Коляда. Это очень крупный художник, очень занятой. Но он выстраивает горизонтальные связи со зрителем. Он общается с ними через блог, встречает в фойе, подает куртки после спектакля в гардеробе — он распахнут навстречу людям, тратится на них. Это способность художника стать частью зрительного зала, а не быть закрытым волшебником из башни, который появляется на публике только по праздникам.
— В конце, раз уж мы говорим про образование, не могу не спросить про театроведческое. Что сейчас с ним происходит? Требует ли оно реформирования, как оно меняется?
— С одной стороны, оно очень неплохое: можно гордиться нашими вузами, они продолжают выпускать людей, пригодных к работе. У нас по-прежнему очень хорошее полиформатное образование. Театроведы часто работают за пределами театра — культурологами, людьми, связанными с искусством, кино и так далее. Конечно, оно требует реформирования, которое невозможно сейчас, потому что существует постоянный контроль образования. Важно научить современных театроведов воспринимать свой труд не только как труд писателя, мыслителя, но и как человека, который что-то делает ручками. Так или иначе, все умеют разбирать спектакли письменно и устно. Но сегодня от театроведа требуется и кое-что другое: кураторство, способность много читать и смотреть, распознавать новое, заниматься культурными коммуникациями, связывать людей между собой, делать междисциплинарные проекты. Важен навык устного разговора, потому что все чаще ты говоришь, а не пишешь: дискуссии и встречи со зрителями очень часты, это тоже наша конкретная работа. Это и работа в Сети. Этим вещам стоит уделять больше внимания, нежели уделяется сегодня. Нужно охватывать новые полигоны для работы во имя славы театра.
«Современное культурное пространство в большей степени зависит от предыдущих поколений, нежели от классического наследия»
С другой стороны, сегодня в связи с принятием Болонской системы оказывается, что театроведа можно обучить за четыре года. Мне кажется, это неправильно. Объем культуры каждый год вырастает в несколько раз: наверное, сегодня нужно учиться уже шесть-семь лет, чтобы освоить весь массив культуры. Невозможно заниматься современным театром, не зная всего, что было до тебя. Есть проблема в изучении ХХ века: мы до сих пор в тисках советской цензуры, когда от нас были отрезаны целые художественные направления. ХХ век в наших школах изучался очень пунктирно, нежели классические периоды истории культуры, с какими-то лакунами, и это продолжает влиять на наше образование. В ГИТИСе был потрясающий профессор Илья Ильин — теоретик постмодернизма, структурализма. Когда он читал курс мировой западной литературы, он сперва читал ХХ век, а потом от античности до XIX века. В этом была глубокая мудрость, очень верная позиция, потому что современное культурное пространство в большей степени зависит от предыдущих поколений, нежели от классического наследия. Мы постоянно в контакте с теми, кто жил в ХХ веке. Мы питаемся от этого. Те процессы, которые происходят сегодня на наших глазах, — следствие того, что произошло в послевоенную эпоху. Так что, ни в коем случае не отнимая у студентов очень важных лекций и семинаров по классической культуре, нужно самым усиленным образом изучать ХХ век.
Недавно был случай в одном городе: к режиссеру подошел зритель и говорит: «Почему вы меня обманываете в своем спектакле? Вы показываете сцену с мотоциклом. Я понимаю, что люди говорят о мотоцикле, но в этот момент на сцене рояль. Люди сидят на рояле, как будто они сидят на мотоцикле». Зритель был возмущен, что его постоянно обманывает искусство: что ему говорят одно, а показывают другое. Этот зритель находится внутри советского образования, внутри конвенции соцреализма. Он не виноват, ему образование не объяснило, что искусство — это создание художественных образов, а не дубляж реальности. Получается, что человеку, только что познавшему прелести большого советского кино в «Семнадцати мгновениях весны», сразу показывают Ларса фон Триера. У него когнитивный диссонанс, шок. Нельзя после Архипа Куинджи сразу показывать Джексона Поллока и Марка Ротко, потому что между этими феноменами есть бесконечные стадии, которые нужно изучить. К сожалению, лакуны в образовании часто ставят зрителей перед подобной дилеммой. Это проблема.
Недавно был случай в одном городе: к режиссеру подошел зритель и говорит: «Почему вы меня обманываете в своем спектакле? Вы показываете сцену с мотоциклом. Я понимаю, что люди говорят о мотоцикле, но в этот момент на сцене рояль. Люди сидят на рояле, как будто они сидят на мотоцикле». Зритель был возмущен, что его постоянно обманывает искусство: что ему говорят одно, а показывают другое. Этот зритель находится внутри советского образования, внутри конвенции соцреализма. Он не виноват, ему образование не объяснило, что искусство — это создание художественных образов, а не дубляж реальности. Получается, что человеку, только что познавшему прелести большого советского кино в «Семнадцати мгновениях весны», сразу показывают Ларса фон Триера. У него когнитивный диссонанс, шок. Нельзя после Архипа Куинджи сразу показывать Джексона Поллока и Марка Ротко, потому что между этими феноменами есть бесконечные стадии, которые нужно изучить. К сожалению, лакуны в образовании часто ставят зрителей перед подобной дилеммой. Это проблема.

